|
Category:
о молитве
О МОЛИТВЕ "Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался".
(Деян. II, 25) "Восподражаем отцам нашим, - пишет преп. Никифор, - и подобно им взыщем сущее внутри сердец наших сокровище и, обретши, крепко держать будем, делая и храня" (Д V, 240). Храни сокровище - страх потерять его, ищет же его прежде всего молитва. "Всякая добродетель, - говорит преп. Серафим, - Христа ради делаемая, дает блага Духа Святого, но более всего их дает молитва" (С. 45). "Хотя на себя ненадеяние, упование на Бога и пребывание в подвигах крайне необходимы в духовной нашей брани, но необходимее всех их молитва, потому что ею стяжеваются и полную силу восприемлют и те первые три орудия (на себя ненадеяние, упование на Бога и пребывание в подвигах), как и всякое другое благо. Молитва есть средство для привлечения и длань для приятия всех благодатей, столь обильно изливаемых на нас из неистощимого источника беспредельной к нам любви и благости Божией. В брани духовной ею ты влагаешь бранный меч свой в десницу Божию, да поборает Он за тебя врагов твоих и побеждает их" (преп. Никодим Святогорец Н, 187). Так относятся к молитве все святые; поэтому когда они говорят о ней не как о частной добродетели, наряду с другими, а именно как о "преемнице благодати", они находят для нее свои величайшие слова. "Когда душа, упразднившись от всего внешнего, соединится с молитвою, тогда молитва, как пламя некое, окружив ее, как огонь железо, делает ее всю огненною... Блажен, кто еще в жизни сей таким видетися сподобился, и сам свой бренный по естеству образ видит огненным по благодати" (преп. Илия пресвитер, Д V, 378). "Молитва, по качеству своему, есть общение (событие) и единение человека и Бога. По действию же она есть стояние мира... мост чрез искушения... пресечение браней, дело Ангелов, пища бесплотных, будущее радование, конца и предела не имеющее делание, источник добродетелей... проявление мер... Для истинно молящегося молитва есть истязалище, судилище и престол Господень, прежде престола будущего" (преп. Иоанн Лествичник, Д V, 346). У молитвы есть свой "лествица" восхождений, начиная от первого искреннего лепета Богу до высших ее степеней и озарений, доступных только святым, а у нас, современников, есть одна особая причина, по которой мы иногда стремимся к ней больше всего. "Если ты не получил дара воздержания (пощения), - пишет преп. Иоанна Карпафийский, - то ведай, что Господь ради молитвы твоей и упования хочет услышать тебя, когда воззовешь к Нему. Узнав такое Господнее о тебе присуждение, не тужи о своем бессилии к подъятию подвига пощения, но паче постарайся избавиться от врага молитвою и благодушным терпением" (Д II, 95). Это как бы предвидение нашего духовно-нищего состояния имеется и у других Отцов. "Хочешь ли, я покажу тебе и другой путь ко спасению? Докучай Создателю своему, сколько сил есть, молитвами, чтоб не уклониться от предлежащей цели твоей... И бесстрастия не ищи, как недостойный такого дара, но проси притрудно спасения, и с ним получишь и бесстрастие" (преп. Феогност, Д II, 385—386). Евангельская заповедь о "докучливой молитве" есть радостный исход. "Неотступно молись, подражая бесстудию вдовицы, склонившей на милость неумолимого судию" (митр. Феолипт, Д V, 172). Молитва есть первейшее наше оружие, так как мы совершенно безоружны. "Молитву Отцы называют оплотом духовным, - пишет св. Федор Эдесский, - без которого нельзя выходить нам на брань, чтоб не быть уязвленными копьями вражескими" (Д III-349). "Нищим свойственно просить, а обнищавшим грехопадением свойственно молиться" (еп. Игнатий Брянчанинов Б1 140). Конечно, это есть общий закон молитвы, ее основание, одинаковое для всех эпох истории и для всех степеней молитвы, но это не уменьшает, а увеличивает ее значение для нас. "Основание молитвы, - говорит еп. Игнатий Брянчанинов, - заключается в том, что человек есть существо падшее. Он стремится к получению того блаженства, которое имел, но потерял, - и потому молится" (Б1 160). Первая заповедь Нового Завета есть основание молитвы и восхождение по заповедям нужном начинать с нее, особенно если мы не имеем и того благодушного терпения скорбей, о которой говорил преп. Иоанн Карп. "Если не переносим скорбей (надо) плакать о недостатке терпения... Бог, увидев нас плачущих и смирившихся, как Сам Он ведает, всесильною Своею благодатию изгладит грехи наши" св. Марк-подвижник (Д1 507). Путь смиренного взывания к Богу о помощи есть по преимуществу наш путь. "Кто слаб телом и наделал много тяжких беззаконий, тот да шествует путем смирения... ибо иного пути не найти ему" св. Иоанн Лествичник Д II, 515). "Видел я немощных душою и телом, которые за множество согрешений своих покусились на подвиг выше их меры, но не могли понести его. Я сказал им, что Бог судит - о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения" (он же Д II, 511). "Молитва и молчание суть из числа добродетелей в нашей власти состоящих; а пост и бдение суть из числа не вполне в нашей власти состоявших добродетелей, так как они зависят и от сложения тела" (св. Илия-пресвитер Д III, 473). "Смирение и без подвигов многие прегрешения делает простительными, без смирения же и подвиги бесполезны" (св. Исаак Сирин). "Сердце, исполненное печали о немощи и бессилия в делах (подвига) телесных, явных, заменяет собою все сии телесные дела" (он же). "Кто познал, что имеет нужду в помощи Божией, тот совершает множество молитв. И в какой мере умножает их, в такой смиряется сердце его... Как же скоро смирится человек, немедленно окружает его милость... Из сего уразумевает он, что молитва есть прибежище имущих помощи... и что все множество духовных благ делается для него доступным молитвою... По великому желанию помощи Божией приближается человек к Богу намерением своим, в такой и Бог приближается к нему дарованиями Своими, и не отъемлет у него благодати за великое его смирение (он же Д II-677, 753 и 724). Вот непреложное основание молитвы, ее "Камень веры", одинаковое и для общего ее стяжания, и для каждого отдельного ее практического шага. "Или совершая службы свои (молитвенные последования), совершаем им в смиренномудрии, как недостойный, то они приятны Богу; если же при сем взойдет на сердце твое и помянешь, как другой (в эту пору) спит или нерадит, то труд твой бесплоден" (преп. авва Исаия Д1 323). "Есть опасность и в том, что, приняв лукаво слова Отцов о "неполучивших дара поста", мы умудримся сделать из молитвы какую-то свою "немощную специальность". Закон триединства совершенствования человека - в молитве, воздержании и любви - всегда в действии, несмотря на разность духовных характеров. Только чистые сердцем узрят Бога. "Молитва бессильна, если не основана на посте", - говорит еп. Игнатий Брянчанинов (Б1 135), хотя бы в малую и смиренную меру нашей немощи. Но телесное воздержание касается, как известно, не только пищи. "Лобызай чистоту, как зеницу ока своего, да будешь храм Божий и дом Ему желанный, ибо без целомудрия невозможно соделаться своим Богу" (преп. Феогност Д III-424). Не всякий, говорящий Мне: Господи, Господи, войдет в царство небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного(Мф. VII, 21). "Сила и состоятельность молитвы зависят от исполнения заповедей; вследствие чего праведный имеет сильную и много мощную молитву" (св. Максим Исповедник Д III-299). "Познается христианин не от глаголания "Господи, Господи", но от подвига против всякого греха" (св. Тихон Задонский Т-82). Искоренение душевных страстей не связано с физическими силами человека, а потому остается всегда в силе, например, и для больного. А ведь при молитвенном искании Бога именно эти страсти приобретают особо вредоносную силу, так как ни гордость или тщеславие, ни ненависть или раздражение, ни осуждение или зависть, - совершенно не совместимы с молитвой. "Если кто, не имея молитвы, - пишет преп. Макарий Великий, принуждает себя к одной только молитве, чтобы иметь ему молитвенную благодать, но не принуждает себя к кротости, смиренномудрию, к любви, к исполнению прочих заповедей Господних... - тот если и приемлет благодать молитвенную, то утрачивает оную по приятии и падает от высокоумия,.. потому что не предает себя от всего произволения исполнению заповедей Господних" (Д I 204, 205). На первое место из всех душевных страстей преп. Ефрем Сирин (и другие Отцы) ставит три: забвение, леность и неведение "Сими тремя страстями, - говорит он, - омрачаемое око душевное, т. е. ум, подпадает господству прочих страстей" (Д II-370). Наша рассеянность ума и есть забвение, питаемое леностью. "Три силы сатаны предшествуют всем грехам, - говорили еще Отцы, - первая забвение, вторая - нерадение, третья - греховное вожделение. От забвения рождается нерадение, от нерадения преступное вожделение. Если ум столько будет трезвен, что воспротивится забвению, то он не впадет в нерадение; если не вознерадит, то и не подчиниться вожделению; если не подчинится вожделению, то никогда не падет, вспомоществуемый благодатью Христовой" (От.-490). "Памятью о Христе Иисусе собирай расточенный ум свой" (преп. Филофей Син. Д III-457). Ум, через молитву, с самой первой ее ступени, должен начинать собирать свои расточенные силы, чтобы войти в новую жизнь. "Тому, кто погружает мысль свою в здешние заботы, невозможно вдыхать в себя ощущение оного нового мира" (св. Исаак Сирин Д II-687). Молитва, даже еще в несовершенной или неумелой своей форме, т. е. в начале молитвенного труда, есть уже выход человека из пяти измерений мира человеческих представлений, дел и забот, из мира тленной телесности, в мир измерений иного века. Человеку и страшно от непривычки, и в то же время он знает, что вступил на верный корабль, уносящий его среди ночи на родину. "Молитва есть преемница наития Духа Святого" (еп. Феофан Д1 214). Вот почему нам и сказано: непрестанно молитесь (1 Фес. V, 17), - это все равно, что сказать: непрестанно стремитесь к Богу. Это для нас труднее всего, так как это существо религии, а не ее периферия, и погрузить всего себя в воды любви Божией, как в неизвестную стихию неумеющим плавать, нам слишком страшно. "Кто ежедневно принуждает себя пребывать в молитве, тот духовною любовью к Богу воспламеняется к божественной приверженности и пламенному желанию и приемлет благодать духовного осеяющего совершенства" (Макарий Великий Д1 215). "Когда кто пребудет в собранности ума и в таком его простертии к Богу, тогда, сильным самопринуждением утесняя быстротечность своих мыслей, мысленно приближается он к Богу, встречает неизреченное, внушает будущего века" (св. Григорий Палама Д5 35). Собранность ума, по учению Отцов, требует большого принуждения и терпеливой настойчивости, а поэтому молитва есть прежде всего труд. Только личный труд, искание сердцем Бога, особенно под руководством истинно духовного отца, а по книги, может надежды и вполне научить молиться. "Молитва, - пишет св. Исаак Сирин, - требует обучения, чтобы долговременным пребыванием в ней ум упремудрился (молиться как должно). По нестяжании, избавляющем наши помышления от уз, молитва нуждается в долговременном пребывании в ней, ибо от продолжительного пребывания в ней ум приемлет обучение, познает способы отгонять от себя помыслы, научается многим опытом своим тому, чего не может принять от иного" (От.-334). Конечно и тут прежде всего необходим научающий страх Божий. "Сказала авва Серпион: как телохранители царя, предстоя ему, не могут оглядываться ни направо, ни налево, так и человек, предстоя Богу и ощущая страх Его, не может ни на что иное обращать внимание" (От.-438). Страх Божий есть страшное ощущение реальности Божественного мира. Вот почему именно он прежде всего другого практически учит вниманию и трезвению - этим составным элементам молитвы. На почве непонимания того, что царство небесное нудится (Мф. XI, 12) возникает теория "настроений", которых надо якобы ждать для молитвы. В христианстве настроение одно - труд, и вся духовная жизнь основана на духовном труде, более реальному, чем физический. В молитве не "настроение" предшествует, а благодать Божия может, по своему произволению, или предшествовать молитве, или последовать за ней или совсем не обнаружить себя, в зависимости от состояния молящегося или для испытания чистоты и смирения его молитвенного подвига. "Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву легкую, чистую и сладостную" (бл. Зосима Д III-128). "Приступающему ко Господу надлежит принуждать себя ко всякому добру: принуждать себя к любви, если кто не имеет любви; принуждать себя к кротости, если не имеет кротости.., принуждать себя к молитве, если не имеет духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвизается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему истинную духовную молитву, даст истинную любовь, истинную кротость" (преп. Макарий Великий Д 1 204). "Всякая молитва, при которой не утрудится тело, а сердце не придет в сокрушение, признается недозревшим плодом" (св. Исаак Сирин. От.-309). Многие, отказываясь от тесноты молитвенной добродетели, не улучают просторности дарований" (св. Григорий Палама Д5 325). О том, как молились святые, дает понятие такое место Патерика: "Авва Аммон сказал: я препроводил четырнадцать лет в скиту, моля Бога денно-нощно, чтоб Он даровал мне победить гнев" (От. 68). "Когда молишься, - говорит преп. Нил Синайский, - всеми силами храни память свою, чтобы она не предлагала тебе своего... Память приводит тебе на ум во время молитвы или воображения давних дел, или новые заботы, или лицо оскорбившего тебя". "Очень завидует демон человеку молящемуся, - говорит тот же Отец, - всякие употребляет хитрости, чтобы расстраивать такое намерение его; поэтому не перестает возбуждать посредством памяти помыслы о разных вещах[ и посредством плоти приводит в движение все страсти" (Д II-212). "Врачуется же память постоянною памятью Божией, действием молитвы утвердившеюся" (св. Григорий Синаит Д5 208). "Искренно любящий Бога молится без всякого развлечения, равно и молящийся без всякого развлечения любит Бога искренно. Не может молиться без развлечения тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному" (св. Максим Исповедник Д III-193). По учению Отцов, внимание ума при молитве надо направлять не на то, чтобы каким-то своим усилием представлять себе божественный мир. Это будет потуга воображения, противоположного вниманию, и дерзость, недопустимая в молитве. "Стой вниманием внутри себя самого" - учат Отцы, имея в виду внимание ума в сердце. Внимание должно быть направлено на смысл читаемых или произносимых слов. Молитвы, составленные святыми, как окна в вечные просторы, дают для молитвы тот выход, которой ей нужен. "Доброту же ее (молитвы) составляют - держание внимания ума в том, что произносится языком и помышляется при сем умом, и ненасытное всегдашнее вожделение собеседования с Богом" (преп. Феогност Д III-416). "Лукавый, зная наверное, что непарительно молящийся Богу очень многое может сделать, спешит всякими способами, и благословными и неблагословными, развлечь его ум. Но мы, зная это, вооружимся всячески против врага нашего и, когда стоим на молитве, и колена преклоняем, никакому отнюдь помыслу не дадим войти в сердце наше, ни белому, ни черному, ни десному, ни шуему, ни писанному, ни неписанному, кроме умаливания Бога и с неба сходящего в ум просвещения" (Д5 473). "Не словом только надо молиться, но и умом, и не умом только, но и сердцем, да ясно видит и понимает ум, что произносится словом, и сердце да чувствует, что помышляет при сем ум. Все же сие в совокупности и есть настоящая молитва, и если нет в молитве твоей чего-либо из сего, то она есть или несовершенная молитва или совсем не молитва" (преп. Никодим Святогорец"" Н-194). "Молитва только словесная совсем не есть молитва" (он же - Н-195). "Настоящая молитва есть молитва внутренняя, не словом только, но и умом и сердцем совершаемая. Такая молитва овладевает всем вниманием и держит его внутри у сердца; почему внутрь пребывание есть неотъемлемая черта настоящей молитвы и главное ее условие7 С внутрь пребыванием в деле молитвы неотлучна мысль о Боге присущем, видящем и внемлющем молитве, с отражением всякого другого помышления, что именуется трезвением или хранением сердца. Вся потому забота трудящегося над преуспеянием в молитве сюда должна быть преимущественно обращаема, т. е. чтобы всегда неотходно быть у сердца, трезвенно охраняя его от всякого помышления, кроме единого Бога" (он же - Н-204). "Произноси стих псалмопения твоего не как бы заимствуя слова из иного... но говори эти слова в молении твоем как бы сам из себя, с умилением, с уразумеванием разума их" (св. Исаак Сирин т-328). Всякая искренняя молитва, даже несовершенная, есть уже стремление к памяти Божией. Так как преодолеть состояние противоположное памяти Божией - забвение, леность и неведение, - эти три великие болезни души - труднее всего, то понятно, почему Отцы молитвенный подвиг считают наиболее трудным. "Во всяком другом подвиге, - говорили они, - человек стяжевает некоторое упокоение, но молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы". "Помолившись как должно, - пишет преп. Нил Синайский, - ожидай (того), что не должно"... "Когда вселукавый демон, многие употребив хитрости, не успеет воспрепятствовать молитве,.. тогда потом, когда кончит (человек) молитву, отмщает ему" (он же ДЛ-212). "Великий подвиг, - говорили еще Отцы, - и много времени требуется пребыть в молитвах, чтобы обрести невозмутимое устроение ума, - сие второе некое внутрь сердечное небо, где обитает Христос" (Д5 473). "Если желаем воистину угодить Богу и блаженнейшею возлюблены быть от Него любовью, представим Богу ум наш нагим, ничего от века сего не влекущим с собою и в себе - ни искусства, ни знания, но софистического мудрования" (преп. Иоанн Карпаф. Д III-96). Если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное (Мф. XVIII, 3). Труд молитвы кончается и начинается ее покой, когда благодать Божия начинает приоткрывать себя в молитвенном умилении. Умиление, по учению Отцов, есть конец напряженного внимания молитвы, или точнее переход внимания в то состояние, которое уже легко и радостно. "Если хочешь, - говорит бл. Каллист патриарх, - научиться как должно молиться, - взирай на конец внимания или молитвы. Конец же сей есть умиление, сокрушение сердца, любовь к ближнему" (Д V 459). "Благодатное молитвенное настроение характеризуется умилением, посещением которого объятый ум возбуждается к чистой и пламенной молитве( т. е. к переходу на высшие ступени молитвы). Умиление сие находит при разных случаях, как показал опыт... Так (же) разно и выражается оно: иногда обнаруживается оно неизреченною некою радостью духовною; иногда погружает в глубокое молчание все силы и движения души; иногда изводит более или менее обильные слезы" (св. Иоанн Кассиан Д II-137). "Не вкусившие сладости слез умиления и не ведающие, какова благодать их и каково действо", - говорит преп. Никита Стифат, - "думают, что ни ничем не разнятся от тех, кои проливаются по умершим, придумывая при сем многие виды предположений пустых и недоуменных умозаключений. Но они естественно нам прирождены и когда гордость ума склонится к смирению, а душа смежит очи свои от прелести видимых благ и устремит их к одному видению первого невещественного света, отрясет всякое к миру чувство и свыше утешения Духа сподобится, - тогда слезы, как воды источника, исторгаются из нее, услаждая чувства ее, и исполняют мысли ее всякого радования и света божественного; и не это только, но и сокрушает сердце, и ум в видении лучшего соделывает смиренномудрым. Умиление от смиренномудрия, и смиренномудрие от умиления Святым порождаются Духом" (преп. Никита Стифат Д5 133, 134). Стяжание умиления есть стяжание благодати, и для святых понятие молитвы сливается с понятием благодати. "Благодать не вера только есть, но и действенная молитва. Ибо в явности показывает истинную веру, имеющую жизнь Иисусову, производима будучи посредством любви" (св. Григорий Синаит Д5 226). О стяжании умиления в молитве Варсонофий Великий учит так: "Умиление в молитве приходит от воспоминания о грехах своих. Молящийся должен привести на память дела свои, и то, как бывают судимы делающие подобное.. При чтении же и псалмопении умиление приходит, когда кто возбуждает ум свой ко вниманию произносимых им слов и восприемлет в свою душу силу, заключающуюся в них". "Если несмотря на то, - Говорит он же, - нечувствие все еще будет оставаться в тебе, не ослабевай, а все труди себя терпеливо, ибо милостив и щедр и долготерпелив Богу, принимающий наше тщание" (Д II-583, 58;). Чтение Священного Писания Отцы сливали с молитвенным деланием, входя в него через молитву и, в то же время, в нем почерпая и силу для молитвы, и благодать умиления. "Непрестанно бодрствуй, поучаясь в законе Божием, ибо чрез сие согревается сердце небесным огнем" (преп. Варсонофий Великий Д II-588). "Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию целой вселенной, чтобы ум твой погрузился в чудеса Божии. Чтение твое да будет в невозмущаемой ничем тишине, и будь свободен от многопопечительности о теле и от житейского мятежа, чтобы ощутить в душе своей, при сладостном уразумении, самый сладостный вкус, превосходящий всякое ощущение" (св. Исаак Сирин Д II-703). "К словам таинств, заключенных в Божественном Писании, не приступай без молитвы и испрошения помощи у Бога, но говори: "дай мне Господи приять ощущение заключающейся в них силы". Молитву почитай ключом к истинному смыслу сказанного в Божественных Писаниях". (он же Д II-749). Ученик спросил авву Филимона: "чего ради, отче, паче всякого Писания Божественного, услаждаешься ты Псалтирью, и чего ради, поя тихо, ты представляешься будто разговариваешь с кем-то? На это он сказал ему: Бог так напечатлел в душе моей силу псалмов, как в самом пророке Давиде, и я не могу оторваться от услаждения сокрытыми в них всяческими созерцаниями" (Д III-398, 399). "Чтение Писаний инаково бывает для тех, кои только вводятся в жизнь благочестия, - пишет преп. Никита Стифат, - инаково для тех, кои прошли до средины преуспеяния; инаково для тех, кои востекают к совершенству. Для одних оно бывает хлебом трапезы Божией, укрепляющим сердца их на священные подвиги добродетели... так что они говорят: "уготовь еси предо мною трапезу сопротив стужающих ми" (Пс. 22). Для других оно - вино чаши Божественной, веселящее сердца их, в исступление их приводящее... так что им свойственно говорить: чаша Твоя уповающа мя, яко державна (Пс. XXII, 5). А для третьих (оно) - елей Божественного Духа, умащающий их душу, укрощающий и смиряющий ее преизбытком божественных озарений... так что и она хвалясь вопиет: умастил еси елеем главу мою, и милость Твоя пожнет мя вся дни живота моего (Пс. XXII, 5) (Д V 139—140). "Блажен, кто ненасытно яст и пиет молитвы и псалмы здесь день и ночь и укрепляет себя славным чтением Писания, ибо такое причащение доставит душе в будущей жизни неистощимое радование" (преп. Иоанн Карпаф. Д III-105). Умиление молитвы не домогается, не ищется как нечто такое, что Господь будто бы обязан нам дать. Но в то же самое время утопающий в холоде и одиночестве сухого молитвенного труда, ищет хоть соломинку благодати Божией, хоть единую каплю небесной росы с душевной пустыне. Тут как бы противоречие, разрешаемое только в смирении сердца. Ищется не должное, и не награда, и не высота духовного состояния, а только помощь Божия в Его благодати. Вот почему такой строгий учитель, как еп. Феофан затворник, пишет в одном письме к мирскому другу: "Добивайтесь ощутить сладость истинной молитвы. Когда ощутите, тогда это будет манить вас на молитву и воодушевлять к притрудной и внимательной молитве" (Ф II, 178). Но отцы всегда предупреждают: "Внимай, как бы не пострадать из-за обильной радости духовной и умиления; а постраждешь, если подумаешь, что они суть плод собственного твоего труда, а не благодати Божией, потому что за это они взяты будут от тебя, и ты много поищешь их в молитве" (преп. Симеон Благоговейный Д V, 67). "Кто слезами своими внутренно гордится и осуждает в уме своем не плачущих, тот подобен испросившему у царя оружие на врага своего и убивающему им самого себя" (св. Иоанн Лествичник Д II-550). "Бывает плач без духовного смирения и те, которые плачут таким образом, думают, что такой плач очищает грехи. Но они тщетно обманывают себя, потому что лишены бывают сладости Духа, таинственно порождающейся в мысленном сокровище - хранилище души, и не вкушают благости Божией. Почему таковые скоро воспламеняются гневом и не могут совершенно презреть мира" (преп. Симеон Нов. Бог. Д V 29). Ложное умиление разоблачает себя гневом - вот показатель! Только смирение-любовь может дать чистую воду слез. Корень слова "смирение" - мир. Смиренное сердце - это мирное сердце, и "Царство Божие есть правда, радость и мир". В сердце богоугодно молящихся "мир Божий, который превыше всякого ума", и который несовместим со смятением гнева. "Если Дух Святый есть мир души, а гнев есть смятение сердца, то ничто не полагает такой преграды пребыванию Его в нас, как раздражительный гнев" (св. Иоанн Лествичник Д II-532). "Умиление, - говорит еп. Игнатий Брянчанинов, - есть ощущение обильной милости (Божией) к себе и ко всему человечеству" (От. 67). В истинном умилении человек обретает ощущение Божественного мира и любви. "Мир Божий есть и начало, и непосредственное следствие смирения; он - действие смирения и причина этого действия. Он действует на ум и сердце всемогущею Божественною силою. И сила, и действие е непостижимы" (свят. Игнатий Брянчанинов). "Стяжи мир души, и тысячу вокруг тебя спасутся", как-то сказал преп. Серафим. "Начало безгневия - молчание уст, при возмущении сердца. Средина - молчание помыслов при тонком смущении души. Конец - непоколебимая тишина, при дыхании нечистых ветров" (преп. Иоанн Лествичник Д II-532). Но конечно не только страсть гнева есть "смятение сердца". В учении Отцов все страсти, в том числе и самые скрытые, душевные, как нечистая буря, противополагаются миру Божию и Его божественной тишине. Об этом так хорошо говорится в службе Иоанну Предтече, который всегда почитался как особый наставник покаяния и монашества: "Крестителю и Предтече Христов, погружаемый всегда сластьми телесными ум мой управи и волны страстей укроти, яко, да в тишине божественной быв, песнословлю тя... Потоцы страстей и воды злобы до души моея внидоша. Блаженне предтече, потщися скоро изъяши мя, иже речными струями измыл еси бесстрастия тишайшую пучину". Постепенно привыкая к молитвенному труду, у человека невольно возникают желания: во-первых, уменьшать многосложность своих просьб, и, во-вторых, уменьшать многословность самих молитвенных обращений. Оба эти желания, - учат Отцы, - есть признак, что молитва, как жизненная сила, начала входить глубоко в душу, точно воды моря и прорытый канал. В том и цель начального молитвенного обучения, чтобы многовидность просьб и количество слов, при одновременном сохранении или даже увеличении времени молитвенного стояния, постепенно рассеивались, как туман при восходе солнца. Очень ценные указания о видах молитвенных просьб (или о содержании молитвы) дает преп. Нил Синайский. Ищи в молитве своей только правды и Царствия, т. е. добродетели и ведения, - и прочее все приложится тебе (Мф. VI, 33). "Молись во-первых, о том, чтобы очиститься от страстей, во-вторых, о том, чтобы избавлену быть от всякого искушения и оставления" (он же). "Праведно молиться (надлежит молиться) не о своем только очищении, но и об очищении всякого человека, в подражание Ангельскому чину" (он же). "Прежде всего молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жесткость" (он же. Д II-211, 208). Молитву о церкви, о властях и других людях святые вводят в число необходимых устремлений молитвы. "Поминать о молитве о мире Святых церквей и прочее, за сим последующее, - хорошо, ибо о сем Апостольское есть завещание: но исполняя сие (надобно сознавать себя) недостойным и не имеющим на то силы; и о просящем (молитвы) хорошо помолиться. И об Апостолах молились некоторые" (преп. Варсонофий Великий В-98). Авва Зенон говорил: кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот когда станет для совершения ее и прострет руки горе, прежде всякой другой молитвы, даже прежде молитвы о душе своей, да принесет молитву о врагах своих, и ради этого Бог услышит всякую молитву его" (От.-148). За сокращенным видом молитвенных прошений следует искание краткой молитвы. Душа должна искать краткую молитву, - учат Отцы. "Тому, кто много говорит о молитве своей, неудобно (трудно) сознавать все, что говорит. Но кто молится немногословно, тот может сознавать, что говорится в молитве" (преп. Симеон Нов. Бог. Д5 62). "Узда неудержимому помыслу - однословная молитва" (св. Илия-пресвитер Д III-148). Кроме того при всей своей краткости молитва может быть сохраняема при общении с людьми и занятости делами, только при своей краткости она может стать непрестанной, т. е. сделаться прочным хранителем памяти Божией. Известно молитвенное правило преп. Серафима для людей, обремененных мирскими делами, а также для неграмотных: после краткого утреннего молитвословия (трижды "Отче наш" и "Богородице" и один раз "Верую") - всякий христианин, - учил преподобный, - пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван. Во время работы, дома или на пути куда-нибудь пусть читает тихо: "Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного"; а если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит только: "Господи помилуй" (ДС-296). Но непрестанной может быть только такая краткая молитва, которая воспринимается как совсем своя, из своего сердца исходящая, как самая теплая и родная. Потому еще до перехода к непрестанной молитве, человек начинает невольно искать свои слова для молитвы, начинает молиться своими словами. "Навыкайте, - пишет еп. Феофан, - молиться своей молитвой... И поутру и вечером изъявляйте Господу свои кровные нужды, паче душевные, а то и внешние, говоря Ему детски: видишь, Господи, болезнь и немощь! Помоги и уврачуй!" (Ф.П.-116, 117). "Какими желаем быть во время молитвы, - говорит св. Иоанн Кассиан, - такими должны мы себя уготовить прежде молитвы, и чего не желали бы мы видеть теснящимся в нас, когда молимся, то поспешим прежде того изгнать из сокровенностей сердца нашего, да возможем исполнить Апостольскую заповедь: непрестанно молитесь (1 Фес. V, 17)(Д II-131, 132). Заповедь о непрестанной молитве есть такая же заповедь, как и другие, если не высшая, и она обращена ко всем христианам. Только исполнением ее можно сохранить, по учению Отцов, непрестанную память о Боге и, тем самым, очистить сердце. "Желающий очистить сердце свое, - пишет бл. Диадох, - да разогревает его непрестанно памятью о Господе Иисусе, имея это одно предметом богомыслия и непрестанным духовным деланием. Ибо желающим сбросить с себя гнилость свою, не так следует вести себя, чтоб иногда молиться, а иногда нет, но всегда должно упражняться в молитве с блюдением ума, хотя бы жил далеко от молитвенных домов... Тот, кто иногда памятует о Богу, а иногда нет, что кажется приобретает молитвою, то теряет пресечением ее... (необходимо) всегдашнею памятью о Боге потреблять земляность сердца, чтобы жить таким образом, при постепенном испарении худа под действием огня благого памятования, душа с полною славою совершенно востекла к естественной своей светозарности" (Д III-74). "Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу" (св. Исаак Сирин Д II-730). Если, по определению св. Иоанна Лествичника, совершенная молитва есть событие человека с Богом, то по существу только непрестанным, как единство дыхания, это событие может быть. Непрестанность молитвы есть духовно-логический вывод из самого понятия ее. Вот почему учение Отцов о непрестанной Иисусовой молитве, особенно в ее высшей и сокровенной форме молитвы сердечной, есть и самое важное, и самое страшное из всего того, что они нам оставили. Приводимые ниже выписки имеют дать целью общий и внешний очерк учения Отцов о сокровенном молитве, никак, конечно, не претендуя на практическое руководство в ее обучении. "Сия божественная молитва, - говорит бл. Симеон Арх. Солунский, - есть следующая: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Она есть и молитва, и обет, и исповедание веры... да имеют правилом всегда творить молитву сию все - и освященного чина лица, и монашествующие, и миряне" (Д V 481, 483). Еп. Игнатий Брянчанинов, рассматривая вопрос о пользовании всеми этой молитвой, прежде всего уточняет ее различные виды и степени. Устное употребление ее, - говорит он, преподано как общее правило для всех христиан. Вслед за устным употреблением этой молитвы идут, - говорит еп. Игнатий, - две высшие степени ее: 1) "Умная (молитва), когда произносится умом с глубоким вниманием, при сочувствии сердца". 2) "Сердечная, когда произносится соединенными умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце, и из глубины сердца воссылает молитву" (БП-218). "Кто с постоянством и благоговением, - говорит свят. Игнатий, - занимается внимательно молитвою (устной), произнося слова ее громко или шепотом, смотря по надобности, и заключая ум в слова; кто при молитвенном подвиге постоянно отвергает все помыслы и мечтания, не только греховные и суетные, но по-видимому и благие; - тому милосердый Господь дарует в свое время умную, сердечную и душевную молитву". "Слова (молитвы), - говорит он же, - первоначально должно произносить языком... заключая, по совету св. Иоанна лествичника, ум в слова. Мало помалу молитва устная перейдет в умственную (умную), а потом в сердечную. Но на переход этот нужны многие годы. Не должно искать его преждевременно; пусть он совершится сам собою или, правильнее, да дарует его Бог в известное Ему время, смотря по духовному возрасту и обстоятельствам подвижника. Смиренный довольствуется тем, что сподобляется памятовать Бога" (БП-202, 200, 257). Имея в виду опасност прельщения при пользовании сердечной молитвой мирянами, еп. Игнатий считает, что они могут совершать Иисусову молитву или как устную, или же в сочетании устной с "умною". "Первым образом, - говорит он, - могут и должны заниматься Иисусовой молитвою не только монахи, живущие в монастырях и занятые послушаниями, но и миряне. Такая внимательная молитва может назваться и умною и сердечною, как совершаемая часто одним умом, и в тщательных делателях всегда при участии сердца, выражающимся чувством плача и слезами по причине умиления" (свят. Игнатий Брянчанинов, там же). "Так страшна эта вещь, т. е. молитва не просто умная, но действующая умом в сердце (сердечная), - что и истинные послушники всегда находятся в страхе и трепете, боясь и трепеща, чтоб не пострадать в этой молитве (от) какой-нибудь прелести. Тем более мирским людям, жительствующим без послушания, если они от одного чтения книг понудятся (на эту) молитву, предстоит опасность впадения в прелесть (преп. Паисий Величковский БП-260). Как мы увидим далее, опасения этих двух близких нам по времени духовных руководителей идут от древних Отцов. как говорили они, высшая степень этой молитвы есть "меч Божий", и именно поэтому они опасались, что, вместо поражения врагов, он будет употреблен за самозаклание... Но удивительно не это справедливое опасение, а то, что несмотря на него, все они - и древние, и новые Отцы - упорно и настойчиво все же учат этой молитве. Точно какая-то величайшая опасность для человека, провидимая ими, ощущаемая ими, понуждает их пренебречь опасностью меньшей. Это величайшая опасность в том, что в мире совершенное скудеет память Божия: В эпоху казалось бы полного внешнего благополучия православной Византии, в 14 веке, св. Григорий Синаит не нашел на Афоне почти ни одного монаха, который бы знал сердечную молитву Иисусову и жил в ней. Все уж переходило на внешность и все больше забывалось то истинное, внутреннее, пламенное единение с Богом в благодатной молитве, о котором все учение древних Отцов. Человек обретает в непрестанной молитве искомую им краткость, и, в то же время, ища своих собственных теплейших слов к Богу, он в тих, не им составленных словах, находит свое самое нужное и свое самое собственное: исповедание Христа - Богом, а себя - грешником, к Его любви взывающим. Основание молитвы - земля ее - полнейшее смирение, восхождение ее или небо - любовь Божия. "Начало всякого боголюбезного действования есть с верою призывание спасительного имени Господа нашего Иисуса Христа... и с сим призыванием мир и любовь" (бл. Каллист и Игнатий Д5 337). "Память о Тебе греет душу мою, и ни в чем не находит она покоя на земле, кроме Тебя, и потому ищу Тебя слезно и снова теряю, и снова желает ум мой насладиться Тобою" (авва Силуан. ЖМП, 1956, №1, 2, 3). "Кто любит Господа, тот всегда Его помнит, а память Божия рождает молитву. Если не будешь помнить Господа, то и молиться не будешь, а без молитвы душа не пребудет в любви Божией, ибо через молитву приходит благодать Святого Духа" (он же, там же). "Таково свойство любви! - она непрестанно памятует о любимом, она непрестанно услаждается именем любимого. Имя Господа - паче всякого имени: оно источник услаждения, источник радости, источник жизни" (еп. Игнатий Брянчанинов БП-252). Укореняя в себе, всей своей жизнью, исполнением всех Евангельских заповедей любовь - память Божию, человек тем самым неизбежно будет идти к тому, чтобы укоренять в себе непрестанную молитву-любовь. А когда любовь этой молитвы оскудевает и молитва становится суха, как сухие травы в пустыне, человек все продолжает в своем смирении идти по этой пустыне к любви Божией, к светлым водам благодати. Любовь-память рождает молитву, без труда молитвы душа не пребудет в памяти-любви* Вот почему Отцы саму молитву называли "памятью Божией": в их святом совершении она была уже вполне и памятью, и любовью к Богу. "Монах, - говорили они, - должен меть память Божию, предваряющую дыхание". Память Божия или умная молитва, - говорит св. Григорий Синаит, - выше всех деланий, она есть глава и добродетелей, как любовь Божия" (св. Григорий Синаит Д5 247, 241, 242). В этой взаимозаменимости терминов памяти и любви раскрытие содержания истинной сокровенной молитвы. При сухости молитвенного труда, тем более усиливается смиренное сознание своего ничтожества и искание помощи Божией в Его благодати. Поэтому и в этом сухом труде будет доказательство любви к Богу, столь страшной демонам. Варсонофия Великого спросил ученик: "Когда молюсь и не ощущаю силы произносимых слов, по причине сердечного нечувствия, то какая мне польза от сего (моления)? Старец отвечал: "Хотя ты и не ощущаешь (силы того, что произносишь), но бесы ощущают ее, слышат и трепещут. Итак не переставай упражняться в молитве, и мало-помалу, с помощью Божией, нечувствие твое преложится в мягкость" (В - 473). "Непрестанно молиться, - говорит св. Максим Исповедник, - значит содержать ум прилепленным к Богу, с великим благоговением и теплым желанием" (Д III - 161). Непрестанная молитва есть искание непрестанной любви, с одновременным непрестанным признанием себя грешником, т. е. ее недостойным, а поэтому посягательство на эту молитву вне этого смиренного устремления к любви есть не только безнадежное дело, но и великое безумие. Нестерпимей всего для молитвы - это подмена ее устремления - детской любви к Богу. Всякая фальшь в этом, всякое искание стать каким-то "доктором молитвенных наук", есть духовное уродство, гибельное для человека. "Бесстыдно и дерзностно желающий внити к Богу, - говорит св. Григорий Синаит о молитве, - удобно умерщвляем бывает от бесов, если попущено им будет сие" (Д V - 242). "Когда предстаешь в молитве пред Богом, сделайся в помысле своем как бы немотствующим младенцем" (св. Исаак Сирин, Д II-682). "С простотой и доверчивостью младенцев примем учение о молитве именем Иисуса; с простотой и доверчивостью младенцев приступим к упражнению этой молитвой: один Бог, ведающий вполне таинство ее, преподаст нам его в доступной для нас степени" (еп. Игнатий Брянчанинов, БП-251). "Брат сказал авве Сисою (Великому): усматриваю, что память Божия (умная молитва) постоянно пребывает во мне. Старец сказал: это невелико, что ум твой постоянно направлен к Богу; велико то, когда кто увидит себя худшим всякой твари" (От. 431). Еп. Игнатий делает к этому рассказу такое примечание: "Старец сказал так по той причине, что истинное действие умной молитвы всегда основано на глубочайшем смирении и проистекает из него. Всякое иное действие умной молитвы неправильно ведет к самообольщению и погибели" (От. 432). Тут было очевидно "иное действие" - была потуга на молитву, была "умная молитва", но не было памяти-любви, которая есть ее живоносный источник, исходящий из земли смирения. По учению Отцов очевидно и то, что если такая потуга не приведет к душевной гибели, то сама собою прекратится. "Когда душа возмущается гневом или отягчается многоядением, или сильной печалью омрачается, - говорит бл. Диадох, - тогда ум не может держать памятование о Боге, хотя бы и понуждаем был к тому как-нибудь... Когда же она бывает свободна от таких возмущений, тогда, если иногда и успеет забвение на мгновение украсть мысль о возлюбленном Господе, ум, восприяв свою энергию и живость, тотчас опять с жаром емлется за многовожделенную оную и спасительную молитву; ибо тогда сама благодать сбогомысльствует душе и созывает: Господи Иисусе Христе! Подобно тому, как мать, уча дитя свое, многократно повторяет вместе с ним имя - "отец", пока не доведет его до навыка... Посему Апостол говорит, что Сам Дух способствует нам в немощах наших; о чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными (Рим. VIII, 26). Ибо, так как мы младенчествуем пред совершенством сей молитвенной добродетели, то всеконечно имеем нужду в Его помощи; чтобы когда неизреченная Его сладость обымет и усладит все наши помыслы, мы всем расположением подвиглись памятовать о Боге и Отце нашем и любить Его" (Д III - 42). "Молитва наша взойдет в свойственное ей совершенство, - говорит св. Иоанн Кассиан, - когда в нас совершится то, о чем молился Господь к Отцу Своему: Да любы, еюже Мя возлюбил еси, в них будет(Ин. XVII, 26), и еще: якоже ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в нас едино будут (Ин. XVII, 21). Это будет тогда, когда вся наша любовь, все желание, вся ревность, все стремление, вся мысль наша, все, что видим, о чем говорим, чего чаем, - будет Бог и когда то единение, которое есть у Отца с Сыном, у Сына с Отцом, излиется в наши сердца и умы, - чтобы как Он искреннею чистотою и неразрывною любит нас любовью так и мы соединены с Ним чистою и неразделимою любовью. Достигший сего вступает в состояние, в коем не может не теплиться в сердце его непрестанная молитва. Тогда всякое движение жизни его и всякое устремление сердца его будет единая непрерывная молитва, предвкушение и залог вечно блаженной жизни" (Д II - 139). Поэтому все учение Отцов приводит к тому, что к воспитанию в себе тех нелицемернейших чувств смирения и любви к Богу и отречения для Него от всякого зла, которыми дышит Апостольское время, - это золотой век любви, непрестанно молившейся, - и нужно прежде всего обращаться в рассуждении о непрестанной сокровенной молитве. Тогда все учение о ней делается простым и ясным. Надо, по слову Апостола, чтобы мы не уклонялись от простоты во Христе (2 Кор. XI, 3), а эта простота есть простая к Нему любовь, осуществляемая в жизни. "Святые соединены с Богом простотою своею. Простоту найдешь в человеке, исполненном страха Божия. Имеющий простоту совершен и подобен Богу; благоухает он благоуханием сладчайшим и благодатным; исполнен он радости и славы; покоится в нем Дух Святый" (преп. Антоний Великий. От. 7). Память Божия - любовь соединяет ученика с учителем, и тогда, по благодати Божией, начинается истинная молитва. "Бог есть даяй молитву молящемуся". Благодаря несовершенству человека, память-любовь не пребывает всегда. Больше того: она все время теряется. И вот труд непрестанного молитвенного стояния в сухости сердца, как бы оставленного благодатью, и нужен, чтобы роса божественного утешения опять спустилась в пустыню души. Двойное определение аввы Силуана совершенно точно, и хочется еще раз его повторить: любовь-память рождает молитву, без молитвы душа не пребудет в любви. Первая часть определения - дело благодати Божией, огненный след явления душе Христа, вторая часть - наш труд по взысканию Бога. Говоря о подвиге стяжания умной молитвы, св. Григорий Палама пишет: "Хотя терпение следует само собою за любовью, ибо любовь все покрывает (1 Кор. XIII, 4, 7), но мы научаемся с самопринуждением добре совершать дело терпения, чтобы через него достигнуть любви (Д V - 320). "Любовь к Богу можно возжечь в душе только одной непрестанной молитвой" (Парфений Киево-Печерский, ПВ - 476). "Непрестанная молитва (память Иисусова) едино есть с любовью к Господу" (св. Каллист Тиликуда, Д V, 433). О приучении себя к постоянной молитве сердца еп. Феофан пишет так: "Существо дела есть приобресть навык стоять умом в сердце. Надо ум из головы свесть в сердце и там его усадить, или, как некто из старцев сказал: "сочетать ум с сердцем". Как этого достигнуть? Ищи и обрящешь. Удобнее сего достигнуть хождением перед Богом и молитвенным трудом, особенно хождением в церковь. Но помнить надо, что наш только труд, а само дело, т. е. сочетание ума с сердцем есть дар благодати, подаемый когда и как хощет Господь" (Д V - 507). "Признак духовной жизни, - говорил преп. Серафим, - есть погружение человека внутрь себя и сокровенное делание в сердце своем... Предочистив душу покаянием и добрыми делами, при искренней вере в Распятого, закрыв телесные очи, должно погрузить ум внутрь сердца и вопиять непрестанно, призывая имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда, по мере усердия и горячности духа к Возлюбленному, человек в призываемом имени находит услаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения" (ДС - 171, 174). "Бога любящий вожделевает всегда с Ним пребывать и беседовать. Достигается же сие чистою молитвою. О ней и следует нам пещись, сколько сил есть. Она присвояет нас Владыке нашему... Боже, Боже мой! К Тебе устреннюю возжажда Тебе душа моя (Пс. LXII, 1). Ибо утреннюет к Богу тот, кто, удалив ум свой от всего худого, непрерывно уязвленным бывает Божественною любовью" (св. Федор Эдесский, Д III - 370). "Любовь рождает знание", - божественное просвещение души, та любовь, которою, по слову св. Исаака Сирина, "упоевались некогда Апостолы и мученики". Все учение Отцов о непрестанной молитве не по форме, по содержанию есть не только возвращение к первохристианству и вместе с тем продолжение его. Так это ими и понималось. Говоря о пути сердечной молитвы и подводя итог всему многовековому учению о ней предыдущих Отцов, бл. Каллист и Игнатий пишут: "Сей путь, сие духовное по Богу жительство и священное делание истинных христиан есть истинная, во Христе сокровенная жизнь. Его продолжил и к нему тайноводствовал Сам Богочеловек, сладчайший Иисус; по нему прошли божественные Апостолы, по нему проследовали бывшие после них, и им, как и должно, последовавшие славные руководители наши" (Д V - 452, 453). Говоря о непрестанной молитве, св. Максим Исповедник пишет: "Божественное Писание не повелевает ничего невозможного. Сам Апостол, чрез коего изречено сие, и пел, и читал, и исправлял дела служения своего - и однако же непрестанно молился. Непрестанно молиться значит - содержать ум прилепленным к Богу с великим благоговением и теплым желанием, висеть на уповании на Него и о Нем дерзать во всем, - в делах и приключениях. Так расположен будучи, Апостол говорит: Кто отлучит нас от любви Божией? (Рим. VIII, 35) Так расположен будучи, Апостол непрестанно молился, ибо во всех, как сказано, делах и приключениях своих висел на надежде Божией. Да и все святые всегда радовались скорбям, в чаянии чрез них придти в навыкновение божественной любви" (Д III - 161). "Молитва есть проповедь Апостолов... оживление любви... Евангелие Божие" (св. Григорий Синаит, Д V - 223). И все наше непонимание или ужасание перед этой молитвой имеет своим объяснением только то, что в нас-то нет первохристианства - его любви, смирения и отречения от мира. - У христиан Апостольского века ум был всегда в сердце, как птица в гнезде. Им обучения не требовалось: ум сам молился в смиренном дыхании любви. А в средние и новые века христианской истории это чистейшее дело - труд непрестанного нищего взывания к Богу - люди стали делать в своем безумии источником питания гордости. Варсонофия Великого спросил его ученик: "Враг внушает мне, что непрестанное призывание имени Божия ведет к возношению, ибо человек может при том думать, что он хорошо делает. Как надлежит помышлять о сем?" Великий Старец ответил: "Мы знаем, что болящие всегда требуют врача и врачеваний его, и обуреваемые непрестанно спешат к пристанищу, дабы не постигло их потопление... Итак, научимся тому, что во время скорби непрестанно надобно призывать милостивого Бога. Призывая же имя Божие, да не возносимся помыслом. Кто, кроме безумного, превозносится, получая от кого-либо помощь? Мы же, как имеющие нужду в Боге, призывая имя Его в помощь на сопротивных, если не безумны, не должны возноситься помыслом, ибо по нужде призываем и скорбя прибегаем. Сверх сего мы должны знать, что непрестанно призывать имя Божие есть врачевание. Как врач изыскивает врачевание или пластырь на рану, и они действуют, причем больной и не знает, как сие (делается), так точно и имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как сие совершается" (В - 304). "То, чтобы молиться непрестанно, явно противится гордости... Тот наклоняет себя к смирению, кто, зная, что не может совершить никакой добродетели без помощи Божией, не перестает всегда молиться Богу, чтобы Он совершил с ним милость. Почему непрестанно молящися, если и сподобится совершить что-либо, то зная, почему он совершил сие, не может возгордиться... все свои успехи относит к Богу, всегда благодарит Его и всегда призывает Его, трепеща, как бы ему не лишиться такой помощи... Он со смирением молится и молитвенно смиряется" (св. авва Дорофей, Д II - 607). Для первохристианства потому было невозможно возгордиться от молитвы, что оно жило всецело в ощущении благодати, в сознании того, что совершение молитвы есть дело Духа Божия. Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. VIII, 26). Молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией (Иуд. I, 20—21). Именно об этом же учили и Отцы. "Молиться с разумным сознанием никак не возможно, не сделавшись причастником Духа Святого. То, силою чего мы молимся, как должно, есть Дух Святый" (преп. Симеон Нов. Бог., Д5 - 62, 63). "Ум наш, когда памятью Божиею затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы ему дано было дело какое-нибудь, в удовлетворении его приснодвижности. Ему должно дать только священное имя Господа Иисуса, Которым и пусть всецело удовлетворяет он свою ревность в достижении цели. Но ведать надлежит, что, как говорит Апостол, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1 Кор. XII, 3), (бл. Диадох, Д III - 40). Чтобы не принять учение Отцов о непрестанной сокровенной молитве в известной нам ее форме за какую-то магию слов и не спутать смиренного взывания христианской любви с какими-то заклинаниями факира или же с медитацией праздного ума, полезно знать еще один факт. Не все древние Отцы оставили нам учение о ней в привычной нам форме молитвы Иисусовой. Апостольский век тоже не оставил нам его, хотя в Посланиях раскрываются высочайшие тайны Царства Божия. Св. Иоанн Кассиан так пишет в IV веке о непрестанной молитве: "Для достижения последнего совершенства в молитве надлежит утвердиться в памятовании о Боге неотходном, к чему средством служит краткая, часто повторяемая молитва. Отцы наши нашли, что стремящийся к всегдашнему памятованию о Боге должен приобресть навык непрестанно повторять следующую молитву: Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне потщися (Пс. LXIX, 2)(Д II - 140). Принцип непрестанности и "последнего совершенства" памяти Божией тот же, а слова другие, хотя конечно с теми же самыми чувствами нищеты человеческой и могущества Божиего. И вот эта разность форм и одинаковость содержания есть исключительно важный факт. И те Отцы, которые не оставили нам известного нам учения о сокровенной молитве Иисусовой в Апостольский век, - пребывали в том же состоянии благодатного молитвенного просвещения, которое достигается этой молитвой в привычной нам форме. Это именно тот единый Евангельский путь сокровенной во Христе жизни, о которой писали бл. Каллист и Игнатий, и который для своего выражения и осуществления может иметь несколько иные слова. Дело не в магии слов, а в том, чтобы в человеке был создан храм для вселения Святому Духу. Существует дело - любовь к Богу, смирение перед Ним, чистота для Него, - как три стороны пирамиды, восходящей к Богу. Всяким молением и прошением молитесь на всякое время духом, - говорит Апостол (Еф. VI, 18). И чистейшее дыхание первохристианства во "всяких молениях" пребывало во все той же, или еще большей любви к Богу, которую позднейшие Отцы достигали путем молитвы Иисусовой в привычной нам форме. Всякая попытка доказать непрерывность от Апостолов именно этой формы, помимо своей несостоятельности, есть уже уклонение в формализм. "Дело не в словах, - пишет еп. Феофан, - а в краткой молитовке. Такая не одна была в употреблении. Св. Кассиан пишет, что в Египте употребляли такую молитву: Боже в помощь мою вонми... В других местах другие были в ходу молитовки... Между ними и молитва Иисусова. Но потом отдано преимущество молитве Иисусовой" (Ф4 - 53). Поскольку мы видим только форму, а не понимаем существа, Отцы настойчиво учат о крайней осторожности в искании сокровенной молитвы. Наша сердечная неграмотность в том, что мы не понимаем, что подход к сокровенной молитве - это вся жизнь, действующая Евангельски, или по терминологии Отцов, вся та "деятельная добродетель", которою очищается сердце. А только чистые сердцем... Бога узрят (Мф. V, 8) в молитве. "Никто из непосвященных, или еще млека требующих (Евр. V, 12) да не касается того, чего касаться не в свое время запрещено... Ибо незнающему букв невозможно читать книг" (блаж. Каллист патриарх, Д5 - 458). "Знание букв" - это прежде всего знание своей греховности. Человек сначала должен понять, что дом его горит, что он в смертельной опасности, чтобы действительно искренно возопить к Богу: "Господи помилуй!" Только при таком вопле смертельно испуганного сердца возможна всякая истинная молитва, и только при нем она станет жизнью души. "С дыханием твоим соедини трезвение и имя Иисусово или помышление о смерти незабвенное и смирение", - говорит преп. Исихий Иерусалимский (Д II - 199), т. е., вся жизнь Евангелия должна быть в дыхании. "Не ищи прежде времени, - говорили еще Отцы, - что будет в свое ему время: ибо доброе и не добро, если не добре делается". "Но полезно, прежде делания первейших дел, знать о вторых: ибо знание без делания надымает, а любовь созидает (1 Кор. VIII, 1), потому что все терпит" (бл. Каллист и Игнатий, Д5 - 410, 411). "Тщащийся достигнуть чистой молитвы (сердечной) в безмолвии должен шествовать к сему в трепете великом, с плачем и испрашиванием руководства у опытных, непрестанно слезы проливая о грехах своих... Величайшее есть оружие держать себя в молитве и плаче, чтобы от молитвенной радости не впасть в самомнение, но сохранить себя невредимым, избрав радосто-печалие. Ибо чуждая прелести молитва есть теплота с молитвою к Иисусу, ввергшему огнь в землю сердца нашего, теплота попаляющая страсти, как терния, вселяющая в душу веселие и тишину, и приходящая не с десной и не с шуей стороны, или свыше, но в сердце источающаяся, как источник воды от животворящего Духа" (св. Григорий Синаит, Д V - 244). Царство Божие внутрь вас есть (Лк. XVII, 21). "Духовное действие Божией благодати в душе совершается великим долготерпением... Дело благодати тогда уже оказывается (в человеке) совершенным, когда свободное произволение его, по многократном испытании, окажется благоугодным Духу" (преп. Макарий Великий, Д 1 - 200, 201). "Ведая, что в молитве успеть нельзя без успевания вообще в христианской жизни, неизбежно необходимо, чтоб на душе не лежало ни одного греха, неочищенного покаянием... И постоянно держи в сердце смиренное сокрушение" (преп. Никодим Святогорец, Н - 213). "Только тот, чей ум, отрешившись от уз всех страстей, глубоко умиротворится и чье сердце всем устремлением наикрепчайше прилепится к Богу, может в совершенстве исполнить Апостольскую заповедь: (1 Фес. V, 17) (св. Иоанн Кас., Д II - 133). "Ум страстный не может войти в тесную молитвенную дверь" (св. Илия-пресвитер, Д III - 475). "Если желаешь стяжать молитву, отрекись от всего, да все наследуешь" (преп. Нил Синайский, Д5 - 375). "Все наследуешь" - это не условная фраза, а точное учение Отцов. "Начнем дело молитвы, - пишет св. Марк-подвижник, - и, преуспевая постепенно, найдем, что не только надежда на Бога, но и твердая вера и нелицемерная любовь, и незлопамятность, и любовь к братии, и воздержание, и терпение, и ведение внутреннейшее, и избавление от искушения, благодатные дарования, сердечное исповедание и усердные слезы - через молитву подаются верным; и не только сие, но и терпение приключающихся скорбей, и чистая любовь к ближнему, и познание духовного закона, и обретение правды Божией, и наитие Духа Святого, и подаяние духовных сокровищ, и все, что Бог обетовал дать верным здесь и в будущем веке. Одним словом, невозможно иначе восстановить в себе образ Божий, как только благодатью Божиею, и верою, если человек с великим смиренномудрием пребывает умом в неразвлеченной молитве" (то же у Исих. Иерус., Д1 - 506). У древних Отцов иногда трудно различить, о какой из трех степеней Иисусовой молитвы - устной, умной или сердечной - они говорят, и относится ли говоримое ими только к монахам, пребывающим в безмолвии, или ко всем христианам. Но вот слова еп. Феофана Затворника к мирской девушке: "Когда сердце ваше затеплится теплотою Божиею, с того времени начнется собственно внутренняя ваша переделка... Когда вещь долго лежит под лучами солнца, она сильно нагревается: так будет и с вами. Держа себя под лучами памяти Божией и под чувствами в отношении к Нему, вы будете все более и более нагреваться неземною теплотою, а потом и совсем станете горячая, и не горячая только, но и горящая. И исполнится на вас: огня приидох воврещи на землю сердец человеческих, и ничего столько не желаю, как того , чтобы он у всех поскорее возгорелся" (Лк. XII, 49)(ФП - 188). "Дело молитвы, - пишет он же, - не безмолвников только есть дело, а всех христиан, и это до самых высших ее степеней. Все степени молитвы - Божие суть дело. У Бога же все равны и смотрит Он только на сердце. Как сердце к Нему, так и Он к сердцу, где бы сие сердце ни было. Надо всегда держать молитву. Бог везде есть и все видит, очи Его светлейшие паче солнца. Память об этом надо внедрить в сердце или слить с сознанием" (Хр). В другом месте еп. Феофан опять говорит о том же: "Не возноситься к Богу молитвенно мы не можем, ибо природа наша духовная того требует. Вознестись же к Богу мы иначе не можем, как умным действием. Есть, правда, умная молитва при словесной или вышней - домашней или церковной - и есть умная молитва сама по себе, без всякой внешней формы или положения телесного; но существо дела там и здесь одно и то же. В том и в другом виде она обязательна и для мирских людей. Спаситель заповедал - войти в клеть свою и молиться там Богу Отцу своему втайне (Мф. VI, 6). Клеть эта, как толкует св. Дмитрий Ростовский, означает сердце. Следовательно заповедь Господня обязывает тайно в сердце молиться Богу. Заповедь эта на всех христиан простирается... Непрестанно молиться иначе нельзя, как умною молитвою в сердце. Умная молитва для всех христиан обязательна; а если обязательна, то нельзя говорить, что едва ли возможна: ибо к невозможному Бог не обязывает" (еп. Феофан, Ф III - 381, 382). Очевидно, не различая мирских и не мирских, еп. Феофан следует пути некоторых древних Отцов. "Возможно и в келии сидящему, - читаем мы в одной записи Патерика, - помыслами блуждать вне, и по рынку ходящему быть трезвенну, как в пустыне, в себя возвращать и Богу единому внимая, не принимая впечатлений, толпою нападающих на душу... Ибо истинно мудрый человек, имея тело как бы... безопасным местом убежища для души, на рынке ли бывает, или на праздничном торжестве, на горе или на поле, или среди толпы людской, - сидит в своем естественном монастыре, собирая ум внутрь и любомудрствуя о подобающем ему" (Д5 - 472). Варсонофия Великого спросили: "Как может человек непрестанно молиться? - Старец дал такой ответ: "Когда кто бывает наедине, то должен упражняться в псалмопении и молиться устами и сердцем; если же кто будет на торгу и вообще вместе с другими, то не следует молиться устами, но одним умом. При сем надлежит соблюдать глаза, для избежания рассеяния помыслов и сетей вражиих" (В - 472). Этот же автор сказал: "непрестанную память Божию каждый может сохранять по своей вере" (В - 247). "Имеют долг все христиане, от мала до велика, - читаем мы в житии св. Григория Паламы, - молиться всегда умною молитвою: Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Так чтобы ум их, сердце навык имели всегда изрекать священные слова сии... Бог не заповедал нам ничего невозможного... Почему и это можно исполнить всякому ревностно ищущему спасения души своей. Ибо если бы это было невозможно (для мирян), то было бы невозможно для всех вообще мирян, и тогда не нашлось бы столько и столько лиц, кои среди мира исправляли сие дело непрестанной молитвы, как следует, из коих да будет представителем многих других такого рода лиц отец святого Григория Солунского, дивный оный Константин, который при всем том, что... занимался каждодневно государственными делами, кроме своих домашних дел, как имевший большое имущество... жену и детей, при всем был неотлучен от Бога и... привязан к умной непрестанной молитве. Премногое множество было и других подобных, которые, живя в мире, всецело были преданы умной молитве" (из жит. св. Гр. Пал. - Доброт. V, 517, 518). Всю силу своего учения о сокровенной молитве Отцы направляют на то, чтобы воспитать в учениках своих, т. е. у всех христиан, ясное понимание духовного существа и смысла молитвы: смирения и любви. Смирение в молитве плачет, а любовь обретает свет божественный. "Слезы в молитве, - говорит св. Исаак Сирин, - суть знамение милости Божией, которой сподобилась душа покаянием своим, знамение того, что она была принята и начала входить в поле чистоты слезами" (От. 329). "Начало плача, - говорит св. Григорий Палама, - есть как бы некое искание обручения Божия, которое кажется недостижимым. Почему при сем произносятся некоторые как бы предобручальные слова теми, кои по сильному желанию сего плачут... Конец же плача - брачное в чистоте совершенное сочетание... Истинная жизнь души есть божественный свет, от плача по Богу приходящий... Почему некто из Отцов сказал: "плач делает и хранит" (Д5 - 304, 302, 303). "Молитва, со вниманием и трезвением совершаемая внутрь сердца, без всякой другой мысли и воображения какого-либо, словами: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий - невещественно и безгласно воспростирает ум к самому призываемому Господу Иисусу Христу; словами же помилуй мя - опять возвращает его и движет к себе самому, так как не может еще не молиться о себе. Но когда он достигнет опытом совершенной любви, тогда всецело воспростирается он к единому Господу Иисусу Христу, о втором (т. е. помиловании) прияв действенное извещение. Почему, как говорит некто, взывает только: Господи, Иисусе Христе! (бл. Каллист и Игнатий Д5 - 398, 399). "Непрестанно убо пребудь с именем Господа Иисуса, - да поглотит сердце Господа и Господь сердце, и будут два сии воедино" (св. Иоанн Златоуст, Д5 - 365). Крепка яко смерть любы... Миро излиянное имя Твое (Песн. VIII, 6; I, 2). "Достигший непрестанного пребывания в молитве, - говорит св. Исаак Сирин, - достиг высшего предела всех добродетелей и отселе делается жилищем Святого Духа. Если кто не приял действительно благодати Утешителя, тот не может со свободою и радостью совершать этого пребывания в молитве. Дух, как сказано, когда вселится в человека, не престает от молитвы: ибо Сам Дух непрестанно молится(Рим. VIII, 26). Тогда и в сонном, и в бодрствованном состоянии молитва не прекращается в душе человека; но употребляет ли он пищу и питие, спит ли, или что иное делает, даже при глубоком сне благоухание и испарение молитвы беструдно источается из его сердца. Тогда эта молитва не разлучается с ним, но ежечасно она в нем и с ним. Таковая молитва, если и умолкает извне человека, то опять она же совершает в нем служение свое тайно. Молчание чистых называет молитвою некто из мужей Христоносных; потому что помыслы их суть божественные движения; движение же чистого сердца и ума суть кроткие гласы, которыми сокровенно воспевается Сокровенный". (От. 324).
|
|
Category:
воспитание детей
Из «Слов о воспитании детей» Старец Порфирий Кавсокаливит 6 апреля 2011 г. Источник: Портал Слово 
Действенны только молитва, молчание и любовь. Вы поняли плоды молитвы? Любовь в молитве, любовь во Христе действительно помогает. Пока вы будете любить детей только человеческой любовью, которая часто эгоистична, их поведение будет плохим. Но когда ваша любовь друг к другу и к вашим детям станет христианской и святой, у вас не будет никаких проблем. Святость родителей спасает детей. Для того чтобы это произошло, необходимо, чтобы Божественная благодать подействовала на души родителей. Никто не становится святым сам по себе. Та же самая Божественная благодать впоследствии просветит, согреет и оживотворит души детей. Часто мне звонят даже из-за границы и задают вопросы о своих детях и о других вещах. Вот позвонила одна мать из Милана и спросила, как ей вести себя с детьми. Я сказал: «Молись и, когда нужно, говори с детьми с любовью. Больше молись и меньше говори. Всем требуется много молитвы и мало слов. Не будем навязчивыми, нужно тайно молиться, а потом уже говорить, и Господь даст нам почувствовать, восприняты ли наши слова другими людьми. Если нет, мы не станем говорить. Будем только тайно молиться, поскольку своим многословием мы становимся назойливыми и вынуждаем других противиться, а иногда и возмущаться. Поэтому лучше через тайную молитву обращаться к сердцу других людей, чем к их ушам. Послушай, что я тебе скажу: молись, а потом говори. Так поступай со своими детьми. Если ты все время будешь давать им советы, то они будут им в тягость, и, когда они вырастут, то будут ощущать давление. Так что предпочитай молитву. Говори с ними через молитву. Говори все Богу, а Бог будет говорить с ними. Не надо давать детям советы голосом, который слышат их уши. Ты можешь делать и это, но прежде всего нужно говорить о своих детях Богу. Говори: “Господи Иисусе Христе, просвети моих деток. Я Тебе их вверяю. Ты мне дал их, но я слаба и не могу их направить, поэтому прошу Тебя: просвети их”. И Господь будет говорить с ними, и они скажут: “Ох, не следовало огорчать маму тем, что я сделал!” И это будет их внутреннее чувство, по благодати Божией. Вот что является идеалом: чтобы мать разговаривала с Богом, а Бог с ребенком. А иначе ты говоришь, говоришь, говоришь… Все это в одно ухо влетает, из другого вылетает, и в конце концов начинает восприниматься как давление. И когда ребенок вырастает, наступает реакция — он начинает так или иначе внутренне мстить отцу и матери за то, что они давили на него. А в идеале должна говорить любовь во Христе и действовать святость отца и матери. Сияние святости, а не человеческие усилия делают детей хорошими». Когда дети травмированы и страдают по какому-то серьезному поводу, не беспокойтесь из-за их сопротивления и грубости. В действительности они не хотят вести себя так, но не могут иначе в трудные моменты. Потом они раскаиваются. Но если вы раздражаетесь и впадаете в гнев, то становитесь на сторону лукавого, и он всеми вами играет. Старец Порфирий Кавсокаливит
|
|
Category:
свобода выбора
Марина Бирюкова 25 июля 2011 г. Источник: Православие и современность «Отчего мы всех близких хотим заставить ходить в церковь, молиться, причащаться? От неверия, потому что мы забываем, что Бог хочет того же. Мы забываем, что Бог каждому человеку желает спастись и о каждом заботится. Нам кажется… что от нас, от наших усилий что-то зависит, и мы начинаем убеждать, рассказывать, объяснять, и делаем только хуже, потому что привлечь к Царствию Небесному можно лишь Духом Святым… Мы нарушаем драгоценный дар, который дан человеку,— дар свободы. Своими претензиями, тем, что хотим всех переделать по своему образу и подобию, а не по образу Божию, мы претендуем на свободу других, и стараемся всех заставить мыслить так, как мыслим сами, а это невозможно. Человеку можно открыть истину, если он о ней спрашивает, если он хочет ее узнать, мы же постоянно навязываем. В этом акте нет никакого смирения, а раз нет смирения, значит, нет благодати Святого Духа. А без благодати результата не будет никакого; вернее, будет, но противоположный». 
Прошу прощения за длинную цитату — она из давней проповеди протоиерея Димитрия Смирнова. Проповедь задела меня потому, что я не раз и не два задавала себе вопрос — мучительный, как все наивные вопросы,— почему у меня не получается переубедить — его, ее, их?.. Почему я никак не могу разобрать завалы банальных заблуждений и привести своего заплутавшего ближнего туда, куда надо, а именно — в православный храм? Почему ближний упрямится? Почему он мне не верит? И на что он, глупый, обижается?! За вопросами следовал целый список «диагнозов», иначе говоря, претензий к этим самым упорствующим ближним: гордость; самоуверенность; страх расстаться с мнимой свободой; нечистая совесть и бессознательное сопротивление раскаянию; инертность, пассивность, безволие; наконец, просто лень. Тормоза у меня, впрочем, срабатывали: я не могла не видеть, что мои упорствующие в большинстве своем не глупее и, как минимум, не хуже меня. А как максимум, заметно получше. Постепенно я поняла: искреннее, казалось бы, желание привести своего ближнего в Православие — это очень коварная вещь на самом деле. Оно очень легко вводит нас в соблазн осуждения, а заодно — высокомерия и самодовольства. Рассуждая о том, почему один человек в Церковь приходит, а другой нет, увлекаясь этими рассуждениями, мы и не замечаем, как поскальзываемся. Однажды мне в голову пришла мысль, показавшаяся замечательной: «Если человек действительно ищет истину, если он по-настоящему честен с самим собой, он, пусть не сразу, пусть после каких-то поисков, но все равно придет к Православию». Но следом за этой мыслью пришел и отрезвляющий вопрос: что же это получается? Я, значит, сама с собою честна, а вон тот человек, ныне уже покойный, в Церковь так и не пришедший,— был нечестен? Вправе ли мы вообще об этом судить? Это на самом деле загадка: почему один человек становится верующим и четко определяет свое вероисповедание, другой выбирает «просвещенный» агностицизм, а третий заявляет, что Бога, во-первых, нет, а во-вторых, если и есть, что из этого?.. Это расхождение наших дорог не обусловлено никакими различиями в характерах, моральных кодексах или интеллектуальных уровнях. Перед тайной нужно смириться. Смириться и перестать мучить себя бесконечными «Почему?..» Господь ведает, почему и отчего. Это с одной стороны. С другой — вера ведь не версия. Если мы христиане — значит, мы исповедуем веру, а не используем в своих духовных интересах версию, чисто субъективно выбранную нами из многих иных: «Вот это мне, пожалуй, по душе». От нас ведь хотят именно этого — чтоб мы, как говорится, не претендовали на истину в конечной инстанции: «Ходите, пожалуйста, в свою православную церковь, но не думайте, что те, кто ходит не в нее, неправы». При этом предполагается, что истины как бы и нет, во всяком случае, она никому не известна, потому никто не должен претендовать на обладание ею. «Единственное, на чем можно и нужно настаивать, говорят обычно в таких дискуссиях,— на том, что все возможные мировоззрения, кроме, разумеется, деструктивных и социально опасных, имеют равное право на существование» Право — как в юридическом смысле, так и в моральном — они действительно имеют, и Церковь никогда на это право не покушалась. Но из этого не следует, что мы не должны, во-первых, воспринимать свою веру как веру истинную (иначе ведь невозможно!), во-вторых, защищать ее от ложных суждений и толкований, в-третьих, рассказывать о ней другим — то есть быть ее миссионерами. Если мы не можем или не считаем себя вправе это делать, тогда мы подобны соли, потерявшей силу (см.: Мф. 5, 13). Просто здесь нужно видеть золотую середину, иначе говоря — выработать норму поведения. «Так, а ты в церкви-то бываешь? Когда в последний раз исповедовался? Ни разу?! Ну, слушай, так не пойдет!..» — это агрессия, это попытка схватить человека за руку и затащить в храм силой (довольно распространенная в подобных случаях фраза «Никак его не затащу!»). Но если мы слышим от ближнего что-то вроде: «Бог должен быть в душе, зачем все эти обряды?» — мы должны уметь ответить. Тактично, не атакуя, не унижая — но твердо и уверенно, чтоб человек почувствовал доверие к нашим словам и интерес к ним. И, разумеется, кратко, потому, что долгая речь — насилие над вниманием собеседника. Иногда вполне достаточно произнести: «Да, когда-то я и сам(а) так думал(а)». Заодно вспомнишь, что сам такой был, и остынешь. Конечно, я знаю все это чисто теоретически, а практически вести себя в подобных ситуациях почти не умею. Научиться трудно. Почему? Не потому ли, что в нас мало любви? «Учить людей нельзя, их надо кормить физически и душевно» — так писал великий христианин безбожной эпохи Сергей Фудель. А мы ведь не тем озабочены, чтоб человека поддержать, чтоб ему помочь, а тем, чтоб его поправить. Чтоб он не портил нам погоды и не причинял душевного дискомфорта. Мы видим ошибки и заблуждения ближних, но не видим тех бед, тех болезней, симптомами которых эти ошибки на деле являются. Человек говорит, что не доверяет «этим попам»,— мы возмущаемся его несправедливостью и не думаем о том, что человек этот с неких пор вообще никому не доверяет. Он боится доверять, он уже заранее вооружается недоверием — против всех и вся, и особенно — против тех, кому ему очень хотелось бы довериться на самом деле. Попробуйте-ка вылечить его от этой болезни! Это куда сложнее, чем возмущаться его неправотой и обрушивать на него гневные контрдоводы. Любовь обучать не надо, она изначально все, что ей нужно, умеет. А мы неумелы от нелюбви, от эгоцентричности. Как говорит (см. начало) отец Димитрий, по своему образу хотим всех переделать, а не по образу Божию. Нам бы успокоиться. Перестать нервничать из-за чужого упрямства и неразумия. Потому что эта нервозность — от того, чему посвящена процитированная в начале проповедь, а именно от маловерия. Сами мало верим, а хотим, чтоб от нашей веры, как от огня, загорались другие… А вообще-то ведь нужно, чтоб загорались. Марина Бирюкова
|
|
Category:
ответы на вопросы
Вопрос:
Я долгое время ходила в евангельскую и баптистскую церкви. Недавно приняла крещение в Православной Церкви. Долго к этому шла. Скажите, пожалуйста, можно ли молиться Богу своими словами, как я делала раньше, или же Бог слышит только (в чем я сомневаюсь) те молитвы, которые написаны в молитвословах? Мария
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
Молитва является не только беседой с Богом, но и особым трудом, в котором участвуют разум, чувства, воля и тело. Чтобы молитва была благодатной и принесла плоды, нужна чистота сердца, глубина веры, опыт духовной жизни. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Душа, начинающая путь Божий, погружена в глубокое неведение всего божественного и духовного, хотя б она была и богата мудростью мира сего. По причине этого неведения она не знает, как и сколько должно ей молиться. Для вспомоществования младенствующей душе святая Церковь установила молитвенные правила. Молитвенное правило есть собрание нескольких молитв, сочиненных боговдохновенными святыми отцами, приспособленное к известному обстоятельству и времени» (Слово о келейном молитвенном правиле). Даже апостолы просили Господа: «Научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих» (Лк. 11: 1). Спаситель дал ученикам, а через них – всем христианам совершеннейший образец молитвы – молитву «Отче наш». Кроме молитвы Господней, в апостольский век общепринятыми были псалмы (греч. псалло – «пою») пророка Давида и песнопения других богодухновенных гимнографов. В псалмах славословили и благодарили Господа. Ими утешались и возносили к Богу прошения во всех жизненных обстоятельствах. К псалмопению призывает апостол Павел верующих (см.: Еф. 5: 19; Кол. 3: 16). Однако этим не ограничивалась молитвенная жизнь в первенствующей Церкви. Слова апостола Павла: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5: 17) – содержат призыв к стяжанию постоянной внутренней молитвы, которая чаще всего совершается своими словами. Апостол говорит и о молитве собственными словами, произносимой устами: «В церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на [незнакомом] языке» (1 Кор. 14: 19). В последующие века святые отцы также научают нас молиться не только установленными молитвами, но и собственными: «Для этого не столько нужно слово, сколько мысль, не столько простирание рук, сколько напряжение души, не столько известное положение тела, сколько расположение духа» (святитель Иоанн Златоуст). Наставления молящемуся своими собственными молитвами дает преподобный Иоанн Лествичник: «Не употребляй в молитве твоей премудрых выражений, ибо часто простой и неухищренный лепет детей был угоден Небесному Отцу их» (Лествица. 28: 9); «не старайся многословить, беседуя с Богом, чтобы ум твой не расточился на изыскание слов. Одно слово мытаря умилостивило Бога, и одно изречение, исполненное веры, спасло разбойника. Многословие при молитве часто развлекает ум и наполняет его мечтаниями, а единословие обыкновенно собирает его» (Лествица. 28: 10). Как правильно молиться собственными словами? Преподобный Никодим Святогорец пишет: «В молитве своей надлежит тебе совмещать те четыре действия, о которых пишет святитель Василий Великий: сначала восславословь Бога, потом возблагодари Его за благодеяния, тебе явленные, далее исповедуй Ему свои грехи и преступления заповедей Его и наконец испрашивай у Него потребного тебе, наипаче в деле спасения твоего» (Невидимая брань. Ч. 1. Гл. 46: О молитве). Самое главное, чтобы молитва была живой, искренней и теплой: «Хорошо на молитве сказать несколько своих слов, дышащих горячею верою и любовью ко Господу… И как приятен бывает Господу этот наш собственный лепет, исходящий прямо от верующего, любящего и благодарного сердца, пересказать нельзя: надобно только то сказать, что душа при своих словах к Богу трепещет радостью… Несколько слов скажешь, а блаженства вкусишь столько, что не получишь его в такой мере от самых длинных и трогательных молитв – чужих молитв, по привычке и искренно произносимых» (святой праведный Иоанн Кронштадтский). Об этом говорит и святитель Феофан Затворник: «Если душа бывает вяла и не сильна сама подняться к Богу, читайте на память какую-либо молитву, каждое слово несколько раз повторяя, чтоб разбить душу, как молотом. Когда же душа идет сама к Господу, не читайте никаких молитв заученных, а свою речь прямо ведите к Господу, начиная с благодарения за милости именно вам самим, потом и другое что нужно сказывая. Господь близь! Он внимает слову из сердца» (Письма. Вып. 7. Письмо 1083). 27 / 10 / 2009
|
|
Category:
житейское
Ольга Рожнёва 25 августа 2011 г. Источник: Благодатный огонь 
Может ли и должен ли быть социально успешным православный воцерковленный человек? Этот вопрос сейчас встречается практически во всех православных изданиях. Открываю православный женский журнал «Матроны» и читаю: «Сейчас, когда в православной среде идут оживленные дискуссии о том, „возможно ли спастись богатому“ и нужен ли особый миссионерский подход к „представителям бизнес-элиты“, образ нравственного и честного предпринимателя как нельзя более актуален». Игумен Петр (Мещеринов) в своей статье «Православие в России и 20-летнее испытание свободой: о подменах церковной жизни в откровенном разговоре» проявляет беспокойство: «Люди, проведшие уже долгое время в Церкви, долгое время считавшие себя определившимися в своем жизненном пути, вдруг, по истечении 10–15 лет обнаруживают свое духовное и социальное банкротство. Они не могут похвалиться не только карьерными достижениями, но необходимыми профессиональными навыками и опытом построения деловых отношений». Название статьи в журнале «Нескучный сад» говорит само за себя: «Деловой христианин, или почему православные бывают похожи на дохлых рыбок?» Таким образом, на повестке дня стоит вопрос: можно ли совмещать дорогу к Богу с восхождением по ступенькам карьеры? Иоанн Лествичник писал свою знаменитую «Лествицу» о духовном росте. Но в его книге нет советов о том, как сделать карьеру. Похоже, что мысль о социальной успешности мало занимала Святых Отцов. Они думали о спасении своих чад, а не об их земном процветании. Но разве нельзя это совмещать? Ведь это было бы так прекрасно: процветающий, социально успешный человек делает карьеру, при этом духовно растёт и легко спасается. Вы недоверчиво качаете головой? Можно ли это совместить? Или нужно выбирать для себя что-то одно: либо духовное восхождение, либо карьерный рост? Лествица или карьерная лестница? Когда я думаю об этом, я вспоминаю двух своих подруг. Мы дружим очень долго, можно сказать, всю сознательную жизнь. Обе они верующие женщины, воцерковленные, но пути их к Богу были очень разными. Первая моя подруга пришла к Богу в детстве. У неё верующие родители. Они привили девочке любовь к храму, к службам. С восемнадцати лет Татьяна (назовём её так) на клиросе, она вот уже больше 25 лет по воскресным дням ходит в церковь. У Татьяны верующий муж, который вместе с ней поёт на клиросе. Трое детей, которые также не представляют своей жизни без Бога. Всё в жизни Татьяны ровно и спокойно, нет особенных бурь и катаклизмов. Конечно, бывают и какие-то скорби, но эта дружная семья встречает трудности единым фронтом и легко перелистывает грустные страницы. Мы знаем, что у Татьяны есть крепкие молитвенницы — мама и старшая сестра, которые не оставляют её семью без молитвенной поддержки. Таня делится с нами: когда подступают трудности, она знает, что её мама и сестра тут же обращаются с молитвой к Господу, к своему любимому Святителю Николаю Чудотворцу, и скорби отступают. Такой путь к Богу Святые Отцы назвали бы средним путём, «царским». Ровно идёт Таня по жизни, нет у неё каких-то тяжёлых смертных грехов, бурного прошлого, абортов, обращения к экстрасенсам, гаданий и тому подобного. Не за что уцепиться тёмной силе. Всегда спокойная, уравновешенная, добрая, Татьяна — наша духовная поддержка и опора. И на работе всё у неё ладится. Много лет работала она бухгалтером, а 5 лет назад, продвинувшись по карьерной лестнице, стала главным бухгалтером крупной государственной организации. На работе её ценят и уважают за порядочность, неконфликтный характер. Не смеются, когда она на корпоративных вечеринках во время поста выбирает постные блюда. Наоборот, она подаёт окружающим прекрасный пример православного воцерковленного человека, одновременно успешного в своей карьере. Можно ли сказать, что Таня целенаправленно стремилась к карьерному росту? Однозначно, нет. Она не гналась за должностью, должность нашла её сама. Как сложится Танина жизнь дальше? Я не знаю. Но думаю, что её путь к Богу будет таким же ровным, царским путём. Наша подруга очень почитает Оптинских старцев и часто на память цитирует Амвросия Оптинского: «Жить проще — лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь всё устроит, только живи проще. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет — как случится, — это и есть жить проще». «Нужно жить, не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и всем моё почтение». Когда мы спрашиваем у Тани, как это — не тужить, она приводит продолжение этого высказывания, менее известное: «Жить — не тужить — всем довольной быть. Тут и понимать-то нечего». Таня растёт духовно и восходит от силы в силу. Карьерный рост тоже налицо. А вот у второй подруги нашей, Елены (назовём её так), к сожалению, совмещать это не получилось. Елена выросла в обычной советской семье. В церковь ходили, чтобы окрестить ребёнка или отпеть родственника. С детства не приученная к храму, не знающая, что такое исповедь и причастие, что такое молитвенное предстательство родных и близких, лишённая молитвенной поддержки, Лена была твёрдо уверена, что «Бог в душе». В храм ходила на Рождество и на Пасху, хотя считала себя верующим человеком. Детей своих Елена тоже не приучила к церковной жизни. Мы любили Лену за добрый и искренний характер, весёлый и жизнерадостный нрав. Но ей не доставало цельности и твёрдости Тани, понимания, как это — жить по Заповедям Христовым, как поступать правильно в сложных жизненных ситуациях. Невенчанный брак, аборт, сделанный в слезах, под давлением мужа-атеиста, пристрастие к картам Таро, сонникам, гаданиям — всё это не способствовало духовной жизни Лены. Но, трудолюбивая, умная, волевая, с университетским образованием, она уверенно поднималась по ступеням карьерной лестницы. Была уверена, что каждый человек — кузнец своего счастья, своей судьбы. Чем выше поднималась Лена по ступеням карьерной лестницы, тем сильнее она менялась. Всё реже становились наши дружеские встречи. Лене было не до нас. Днём на работе, даже в воскресные дни. А по вечерам постоянно приглашают то на корпоративные вечеринки, то на шашлыки, в рестораны, в сауну. На наши телефонные звонки по вечерам всё чаще отвечала она нетрезвым голосом. И вот Елена становится руководителем крупной и процветающей организации. С нами она прежняя, но окружающие жалуются, что стала она нетерпима к чужому мнению, не говорит, а вещает, давит на людей. На наших глазах развивалась классическая ситуация искушения властью. Таня качала головой и тихо повторяла мне слова Оптинских старцев: «Можно спастись и в миру, да не на юру». Ещё она молилась за подругу детства. И вот «перемена десницы Вышняго»: смена городской администрации и кадровые перестановки. Лена теряет работу. Когда человек видит цель жизни в своей карьере, такой удар страшен. Лене за 40, и начинать карьеру заново в этом возрасте трудно. А разве в этом смысл жизни? Такие жизненные коллизии игумен Никон (Воробьёв) определял как посещение Божие. Он писал: «Это посещение Божие, чтобы люди поняли цену и прочность мирской жизни». Мы поддерживали Лену. И вот она уже вслед за Таней читает Оптинских старцев. И повторяет нам поучения Амвросия Оптинского: «За всякую неприятность благодари Бога, помня, что она послана тебе ради твоей пользы. Повторяй себе: «Я и той доли не стою, которою в настоящее время наградил меня Господь»«. Лена воцерковляется, сейчас это глубоко верующий человек. Скорбь привела её к Богу. Прежние друзья, наперебой приглашающие на шашлыки и в рестораны, куда-то исчезли. Лена иначе, более скромно одевается. Воцерковившись, она выбросила сонники и карты Таро, больше не отвечает нам по телефону по вечерам нетрезвым голосом. Работает она сейчас на очень скромной должности, но выглядит гораздо более счастливым человеком. У неё появился духовный отец, она ездит в паломнические поездки. Читает духовные книги, регулярно исповедуется и причащается. Вслед за мамой пришли к Богу и дети. Как знать, может быть, её сегодняшняя социальная неуспешность в глазах Бога выше, чем её прошлая карьерная успешность и довольство собой? Вот такие примеры. Таня, которая совмещает духовную жизнь и карьерный рост. И Лена, которая начала свою духовную жизнь, восхождение по Лествице, только потерпев падение с лестницы карьерной. Почему не всем удаётся совмещать карьерную лестницу и Лествицу? Многое зависит от воцерковленности человека, от того, как он начал свою духовную жизнь. Афонский старец Порфирий Кавсокаливит предостерегает от неправильного начала духовной жизни: «Когда человек неправильно начал духовную жизнь или его отягощает что-то наследственное, тогда он видит, как перед ним появляется сатана и устраивает ему шум». Теперь давайте честно ответим на вопрос: все ли мы начинаем нашу духовную жизнь правильно? Приходим к Богу с детства, а не в зрелом возрасте, испытав скорби и болезни, переполненные страстями и грехами? После семидесяти лет Богоборческого государственного строя сказать, что к Богу мы пришли ещё в детстве, могут очень немногие люди. Многих ли из нас не отягощает ничего наследственного? Не стоят ли за нами наши старшие родные — атеисты? А может и Богоборцы? Те, кто занимался атеистической пропагандой? Дежурил на подступах к храму, чтобы не допустить туда молодых верующих людей? Разрушал и закрывал церкви? Старец Порфирий Кавсокаливит предупреждал: «Не будем давать диаволу прав. Лазейка — это и есть право. Удаляясь от Бога, ты подвергаешь себя опасности, потому что сатана находит тебя свободным и владычествует над тобой». Многие ли из нас могут сказать, что не давали диаволу прав над собой? Многие ли из нас не знают, что такое аборт? Никогда не гадали и не обращались к экстрасенсам, гадалкам? Не пробовали гадать сами, открывая добровольно дорогу к своей душе тёмной силе? И теперь, когда такие люди приходят к Богу, бесы не хотят мириться с лёгкой потерей добычи. Человека бросает из стороны в сторону, его мучают многочисленные страсти, искушения, одолевает уныние, отчаяние. Просто ли такому человеку в общественной, социальной жизни? Если мы будем расстраиваться, что такой человек худо-бедно пытается бороться со страстями, восходить по духовной лествице, но охладевает к карьере, то не уподобимся ли мы тем несмысленным людям, которые желали бы, чтобы тяжелобольной принял участие в конкурсе красоты? Тут бы душу спасти! Не до жиру, как говорится, быть бы живу. Бывшая целительница-экстрасенс Н. теперь помогает в храме. О её социальной успешности говорить не приходится. Несколько лет подряд она просто жила в сторожке при храме, спасаясь от бесовских страхований. В церкви ей было легче. Сейчас она нигде не работает. Прибирается в храме. Часто ездит по монастырям и подолгу живёт там на послушании. Если сравнивать её прошлую жизнь и настоящую, то, возможно, в глазах неверующих людей, она проиграла. Сравните богатую, благополучную даму, возглавляющую процветающую фирму по нетрадиционным методам лечения с нынешней Н. — скромно одетой и часто нуждающейся. Жалеет ли она о своей социальной неуспешности? Нет. Она радуется, что не оказалась в психиатрической больнице. И благодарит Бога, что не отринул её, привёл в храм. Мы часто забываем, что Господь ведёт нас по жизни. Что существует Промысл Божий, о котором Преподобный Варсонофий Оптинский говорил: «У кого в душе мир, тому и на каторге рай». «Только тогда ты обрящешь мир, когда будешь верить в Промысл Божий». Святые Отцы определяли Промысел Божий, как действие Божие, которое ставит человека в наилучшие условия с точки зрения его спасения. Господь промышляет обо всех нас. И обстоятельства нашей жизни, наша карьерная успешность или неуспешность — зависят от Промысла Божия, заботящегося о нашем спасении. Григорий Богослов писал: «Когда даст Бог, ничего не сделает зависть, а когда не даст, не поможет никакой труд». Святые отцы также утверждают: «Людей кротких, трудолюбивых, делающих всё единственно для славы Божией, Господь всегда возвышает и даже нередко чудесным образом. Люди никогда не сильны унизить того, кого захочет Бог возвысить». О нашей социальной успешности или неуспешности, карьерном росте, условиях нашей жизни хорошо сказал священник А. Ельчанинов: «Условия, которыми окружил нас Господь, — это единственный возможный для нас путь спасения; эти условия переменятся тотчас же, как мы их до конца используем, обративши горечь обид, оскорблений, болезней, трудов — в золото терпения, безгневия, кротости». Так что же, Лествица или карьерная лестница? Возможно ли подниматься одновременно по обеим? Может ли и должен ли быть социально успешным верующий воцерковленный человек? Может быть социально успешным, а может и не быть. Если его карьера не мешает делу его спасения, то он может иметь и власть, и богатство. Апостол Павел говорил, что научился вести духовную жизнь вне зависимости от внешних обстоятельств: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всём: насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Господь, которому всё возможно, силен устроить любые внешние обстоятельства для своих избранников. Нет сомнений, что в подходящее время Он приведёт верующего в Него человека в нужное место и поместит его в подобающие условия. Но искушения властью и богатством проходят далеко не все. Это очень тяжёлые испытания для человека. По словам святого Иоанна Златоуста, «как слишком большая обувь натирает ногу, так слишком большое жилище натирает душу». Апостол Павел писал: «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем вынести из него. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти». Значит, от нас зависит трудиться, а Господь сам решит, полезно ли для нас восхождение по карьерной лестнице. И если карьерный рост или богатство будут мешать спасению человека, то Промысл Божий отведёт такие искушения от своего верного чада. Лучше спастись, будучи скромным служащим, чем погибнуть, будучи президентом компании. Поэтому переживать за верующих, что не все из них социально и профессионально успешны, не все достигли высот карьеры, — значит не верить в Промысл Божий о каждом человеке. Забывать, что Господь своим ученикам обещал спасение, а не земные блага, не социальную успешность. И продвижение по Лествице добродетелей духовных всегда важнее продвижения по карьерной лестнице. Ольга Рожнёва
|
|
Category:
толкование на Священное Писание
(Мк. 6, 30-45). "И бежали туда пешие из всех городов. . . и собрались к Нему", - это в пустыню Вифсаидскую, где совершено чудное насыщение пяти тысяч пятью хлебами и двумя рыбами. Что же влекло народ к Господу? Сочувствие к Божественному. Божество Господа, сокрытое под покровом человеческого естества, являет себя в слове, деле, взоре и во всем, что видно было в Господе. Проявления Божества пробуждали сокрытое в сердце чувство Божества и через него влекли к Господу. Удержать такое движение никто не властен, не только сторонний, но и сам чувствующий его, потому что оно глубже и сильнее всяких других движений. То же Божественное, проявляемое потом Спасителем, влекло к Нему людей всякого языка, иже под небесем. То же действовалось во всей истории Церкви и действуется до сих пор. Малый след Божественного влечет к себе. Что же следует из этого повсюдного и всевременного опыта стремлений нашего духа к Божественному? То, что Божественное, что сверхъестественное, что и Божество, источник его. Это стремление лежит в основе нашего духа и составляет его природу, как это может всякий видеть из умовых, эстетических и деятельных забот наших. Но в природе не может быть лжи и обмана; следовательно, нет их и в этом стремлении к Божеству. Отсюда выходит, что Бог и Божественное есть, и что естественники, отвергающие сверхъестественное, идут против естества духа человеческого.
|
|
Category:
о Законе Божием
Сергей Худиев 7 августа 2009 г. Источник: Фома В 118-м псалме псалмопевец называет Закон Божий утешением, богатством, радостью, но многие наши современники воспринимают его скорее как огорчение, лишение и обиду. Почему одно из величайших Божиих благодеяний человеческому роду — дарование Закона — часто вызывает горечь и противление? Этому есть несколько причин, и нам стоит рассмотреть их, потому что они касаются самых важных вопросов человеческого существования, нашего места в мире, наших отношений с Богом и нашей надежды на будущее.
Закон, законники и беззаконники 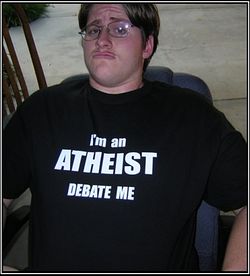
Как-то в одной из западных газет я видел фотографию, сделанную на какой-то антицерковной демонстрации: женщина (или мужчина? — густой грим оставлял это неясным) в майке с надписью «Нет Бога — нет чувства вины. Раскреститесь немедленно!»
Послание выглядело противоречиво — человек, благополучно избавившийся от чувства вины, скорее всего, просто занялся бы своими делами, а не тратил бы время на предъявление настойчивых претензий к Церкви, — однако оно весьма характерно. Современный мир — мир массмедиа, популярных ведущих и книжных бестселлеров — постоянно предъявляет Церкви один и тот же упрек: мол, Церковь навязывает людям чувство стыда и вины, указывая им на то, что их жизнь греховна.
Так ли это? Среди христиан, увы, бывают люди, буквально упивающиеся чужими грехами, иначе сказать, своим (ложным!) моральным превосходством. В Евангелии Господь особенно настойчиво предостерегает нас против этого. Он проявляет удивительную милость к явным грешникам (к вороватым сборщикам налогов или проституткам), но с большой суровостью обличает людей по внешности благочестивых — фарисеев. Да, разговор о нравственности легко превратить в упражнение в фарисействе: благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь (Лк 18:11), а ненависть ко греху перенести на грешников. Высокомерные законники с презрительно поджатыми губами, которые гордятся своей духовностью, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их (Мф 23:4), несомненно, отвращают людей от Церкви и совершают тяжкий грех. Господь не обещает им ничего кроме «горя». Они грубо и явно нарушают тот самый Закон, от имени которого дерзают судить других.
Парадоксально (а когда мы говорим о наших отношениях с Законом Божиим, мы постоянно сталкиваемся с парадоксами), но именно такие «законники» принимаются тем самым миром, который они берутся обличать, с готовностью и даже с какой-то радостью: вот, мол, посмотрите, какие злобные, неуравновешенные, а зачастую и вовсе неадекватные люди эти христиане. Фред Фелпс, странноватый протестантский пастор из маленького американского городка, устраивающий пикеты с плакатами «Бог ненавидит извращенцев», никому не был бы известен, если бы именно те, кого он обличает, не позаботились обеспечить ему широчайший пиар: люди добрые, посмотрите, какие ненормальные эти борцы за нравственность!
Можно было бы предположить, что вся проблема — в грехах отдельных христиан; но это не так. Людей задевает Закон как таковой. Церковь неизбежно выступает с определенными требованиями к поведению людей. Это вызывает непонимание и раздражение — почему бы Церкви не пересмотреть свою позицию в отношении разводов, или абортов, или половых перверсий? Разве можно человеку XXI века навязывать средневековые нормы вроде «не прелюбы сотвори»? Разве такими требованиями Церковь не отталкивает от себя потенциальных прихожан? Разве не обречена она, с такими строгими правилами, остаться на обочине современности?
Парадокс Закона В ХХ веке ряд протестантских общин, опасаясь «оттолкнуть потенциальных прихожан», пошли на серьезное смягчение как нравственных, так и вероисповедных требований. Дошло до курьезных случаев, как, например, с голландским пастором Клаасом Хендриске, который открыто говорит о том, что не верит в личностного Бога Библии. Как говорит он сам, «Бог для меня не существо, но термин для обозначения того, что может произойти между людьми. К примеру, один говорит другому: “Я никогда не предам тебя”, — и затем выполняет свое обещание. Такое событие можно с уверенностью назвать Богом». Верующий человек назвал бы это присутствием благодати Божией, но Хендриске в благодать не верит; он верит в человеческую верность.
Однако когда люди говорят: «А ну ее, эту веру в Бога, давайте жить простой человеческой любовью, взаимной верностью, братской солидарностью», — происходит странная вещь. Без веры в Бога — и искреннего стремления повиноваться Ему — эти простые человеческие вещи не выживают.
Казалось бы, что мешает созданию общин неверующих людей, которые делали бы друг для друга (и для окружающего мира) то же, что и верующие, но без всего этого религиозного «балласта»? Такие попытки предпринимались, и сегодня существуют некие этические общества, стремящиеся воспроизвести «социальный эффект» Церкви, но без ее веры. Только они так немногочисленны и маловлиятельны, что неверующий человек обращает свои взоры все равно к Церкви, говоря не «давайте мы, неверующие, организуемся в какие-нибудь гуманистические общины, а вместо Литургии у нас будут какие-то другие общие символические действия, не предполагающие веры в Бога», но «давайте вы у себя в Церкви переустройте все так, чтобы меня там ничего не тяготило». Но что характерно: на Западе общины, двигающиеся навстречу таким пожеланиям, начинают не приобретать, а, напротив, быстро терять прихожан. Сохранить положительный социальный эффект без веры не получается. Похоже, то, что в Церкви привлекает современного человека, нельзя отделить от того, что в ней тяготит.
Принцип «я никогда не оставлю тебя», о котором говорит пастор-атеист, — это ведь то же самое, что «не прелюбы сотвори». Эти идеи не просто взаимосвязаны — они совпадают. Человеческая любовь, взаимная верность, братская солидарность требуют самоограничения, и чем дальше — тем более сурового. А людей часто отталкивает от Церкви, во-первых, требования самоограничения, а во-вторых, обличение в грехе и само понятие греха. Но понятие греха вылезает немедленно, как только мы пытаемся любить ближнего и творить добро. Тут сразу выясняется, что мы, люди, в этом несостоятельны. Греховность — это как течение: пока позволяешь ему уносить тебя, его просто не замечаешь. А вот когда пытаешься встать на ноги...
Если мы хотим любящей и при этом нетребовательной Церкви, то мы хотим взаимоисключающих вещей: «я хочу, чтобы по отношению ко мне проявляли вечную и безусловную любовь и верность» и «я не хочу, чтобы меня напрягали требованиями вечной и безусловной любви и верности»; «я хочу, чтобы другие люди жертвовали чем-то из любви ко мне» и «я не хочу, чтобы от меня требовали каких-либо жертв». Одновременно удовлетворить и те и другие требования — невозможно.
Община любящих — это неизбежно община кающихся, ибо, не утесняя своей гордыни и самости и не обуздывая своих аппетитов, любви к ближнему не выкажешь. Более того, не выкажешь и любви к себе — то есть желания себе фмблага. Если просто следовать своим желаниям (даже не самым страшным, вроде склонности к пиву и лени, например), то это не принесет ничего, кроме вреда. Беда в том, что окружающая нас культура — это во многом культура «сиюминутных удовольствий».
Культура «короткого гедонизма» Иногда говорят, что христианству в современном мире противостоит гедонизм — стремление к удовольствию как главной цели жизни. Это не совсем так. Христианству в современном мире противостоит даже не тенденция к гедонизму, а тенденция к короткому гедонизму. Просто гедонист желает наслаждаться долговременным здоровьем и ест здоровую пищу; «короткий» гедонист хочет съесть сникерс и получить свое удовольствие немедленно — хотя знает, что в недалеком будущем это обернется проблемами с зубами, желудком и лишним весом. Короткий гедонизм не помышляет о вечности, но он не думает и о том, что будет через шесть месяцев, а часто даже о том, что будет на следующее утро. Человек, увы, всегда был склонен к короткому гедонизму: наслаждаться сейчас, платить потом, и в наше время коммерческая культура буквально принуждает его к этому. «Получи удовольствие немедленно!» — кричат сотни рекламных роликов, щитов вдоль дорог, разворотов в глянцевых журналах. Как пелось в одной эстрадной песенке: «Нет, нет, нет, мы хотим сегодня! Нет, нет, нет, мы хотим сейчас!»
Между тем даже не Церковь, а обыкновенный здравый смысл говорит, что мы приобретаем прочное счастье, лишь отказываясь от немедленных удовольствий. Чтобы наслаждаться здоровьем, надо вести здоровый образ жизни, питаясь отнюдь не сникерсами и пивом. Самое ценное в нашей жизни — близкие, доверительные отношения с другими людьми, а это требует постоянного самоограничения. Чтобы войти в мир интеллектуального и культурного наслаждения, надо долго и терпеливо учиться. Собственно, это вполне может понять и неверующий, только для него долговременные радости, которые мы приобретаем ценой отказа от кратковременных, простираются не дальше земной жизни. Он вполне может быть «долгим гедонистом», который идет на сегодняшние жертвы ради завтрашней цели. Церковь же, фигурально выражаясь, говорит о «сверхдолгом» гедонизме — и называет его блаженством. Это — вечная радость, ради которой мы отказываемся от немедленного удовольствия. Даже для неверующего человека возможны две линии поведения: вести себя разумно и ответственно, стремясь к прочному и долговременному счастью, или же стремиться к немедленному удовольствию, полагая, что какие-то дополнительные средства помогут смягчить последствия такого поведения. (Образно говоря, один благоразумно хранит верность, а другой надеется на то, что от дурных болезней его спасут средства предохранения.)
И вот у человека, привыкшего жить коротким гедонизмом, любые требования долгого гедонизма (не обязательно требования Церкви) вызывают ощущение невыносимого угнетения: «Уже и сникерс им, тиранам, не по нраву!» Причем раздражение вызывает не то, что кто-то мешает есть сникерс (в общем-то никто и не мешает!), а само напоминание о том, что подобное питание вызывает кариес, лишний вес и другие проблемы со здоровьем. В конце Нагорной проповеди (Мф 5:1-7,29) Иисус Христос сказал притчу, которая является как бы заключением этой проповеди.
Один благоразумный человек построил дом на камне, а безрассудный построил дом на песке. В хорошую погоду оба дома стояли хорошо. Но когда пришла буря и подул сильный ветер, то дом, который был построен на песке, упал. Другой же дом, который стоял на камне, на твердом основании, выдержал бурю и ветер и не упал. Эта притча говорит, что нужно строить свою жизнь на твердом основании Закона Божия, и тогда, что бы ни случилось, мы выдержим. Раздражение на Церковь, а особенно на седьмую заповедь, во многом связано с этой культурой короткого гедонизма. С долгим же гедонистом, который полагает здоровую и умеренную жизнь более счастливой, даже с неверующим, конфликта по этому поводу не будет (хотя по другим поводам он возможен). Сама идея о том, что достижение вечного счастья предполагает самоограничение, вполне естественна. Даже с временными благами: семьей, здоровьем, образованием, дело обстоит именно так. Следуя установкам короткого гедонизма, нельзя достичь прочного счастья даже здесь, на земле; и было бы странно, если бы он был совместим с вечным блаженством.
Существует конфликт между тем, чего мы хотим, и тем, что нам нужно, — конфликт этот является одним из очевидных проявлений первородного греха. Искренний друг будет призывать меня прекращать злоупотреблять пивом и перестать лениться и, скорее всего, вызовет у меня сильное раздражение, но в то же время я нуждаюсь в искренней дружбе. Обеспечить искренних друзей, которые вообще не будут выступать против некоторых наших желаний, — невозможно. Это противоречиво по определению — они будут неискренними! Также невозможна и любящая и при этом совершенно нетребовательная Церковь. Когда Церковь идет навстречу «пожеланиям трудящихся» и перестает что-либо требовать от них, даже веры в Бога, — «духовная температура» очень быстро падает до уровня окружающей среды.
Любовь обличает и спасает
Закон есть проявление любви — любви к ближнему, и даже любви к себе самому. Как пишет Апостол: ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона (Рим 13:9, 10). Однако Закон причиняет боль; когда Церковь говорит о святости брака, то те из нас, кто пережил развод, чувствуют себя неуютно. Когда Церковь настаивает на неприкосновенности человеческой жизни — от зачатия до естественной смерти — она задевает тех, кто оказался прямо или косвенно вовлечен в грех аборта. Когда она ограничивает плотское общение рамками законного супружества, многие чувствуют себя не в своей тарелке. Это нередко вызывает недоумение, даже возмущение — разве Церковь должна ранить? Не должна ли она непременно нести утешение?
Закон ранит даже более глубоко: чем больше мы узнаем его, тем яснее понимаем, что не соблюдаем его, даже если воздерживаемся от самых грубых и вызывающих грехов. Чем яснее нам становится, что значит поступать по любви, хранить верность, заботиться о благе ближнего (и о своем подлинном благе), тем лучше мы понимаем, что так не поступаем. Как говорит Апостол, законом познается грех (Рим 3:20). Закон показывает, что все мы — люди виновные и испорченные, причиняющие великий вред себе и друг другу. В этом открытии нет ничего приятного, ничего повышающего самооценку и поднимающего настроение. Для культуры короткого гедонизма, которая требует хорошего самоощущения (и немедленно!), это неприемлемо. Но в действительности — это единственная дорога к подлинному утешению.
Христос пришел спасать не хороших людей — Он пришел спасти грешников. Пока мы пытаемся отменить Закон или переиначить его так, чтобы он не причинял нам неудобств, мы делаем спасение недоступным для себя. Пока мы держим улыбку и уверяем себя, что с нами все в порядке, мы закрыты для любви, милости и утешения — даже для Его любви. «Покаяться и горько зарыдать» — значит пережить болезненный момент истины, за которым приходит осознание того, что мы приняты и прощены. Бог принимает тех, кто покается и уверует, в Иисусе Христе, через Его искупительное служение: «Крест, гроб, тридневное Воскресение». Евангелие есть Благая Весть о прощении грехов; как говорит Пророк, изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя (Ис 44:22).
Как-то одному моему приятелю на день рождения подарили детскую соску на ленточке с надписью «Никогда не поздно жизнь начать сначала». Это было всего лишь шуткой; но когда Христос предлагает нам новую жизнь, в которой прошлые грехи больше не имеют над нами власти, Он не шутит.
Прощение, которое мы обретаем во Христе, избавляет нас от осуждения Закона. Наши отношения с Законом меняются. Он становится не источником осуждения, а руководством к действию. Мы призваны поступать по любви — а как именно, нам говорят заповеди. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона (Рим 13:9-10).
|
|
Category:
об искусстве...
Сергею Васильевичу Рахманинову Есть целый мир в душе твоей Таинственно волшебных дум... Тютчев  Искусство есть служение и радость. Служение художника, который его творит и создает для того, чтобы вовлечь и нас в сослужение с собою. Радость художника, создающего и, вот, создавшего в своем произведении новый способ жизни, и подарившего нам, созерцающим, эту незаслуженную радость... Искусство есть служение и радость. Служение художника, который его творит и создает для того, чтобы вовлечь и нас в сослужение с собою. Радость художника, создающего и, вот, создавшего в своем произведении новый способ жизни, и подарившего нам, созерцающим, эту незаслуженную радость...
Понимают ли это люди? Помнят ли ныне об этом народы, мятущиеся и соблазняемые в духовной смуте? Знают ли они вообще, что такое служение и радость? Радость... Она доступна не каждому; и современное человечество не ищет ее. Она родится из страдания и одоления. Не из скуки, требующей развлечения; не из пустой души, не знающей, чем заполнить свою пустоту; не из утомления и переутомления, требующего все новых раздражений и небывалой остроты. Современное человечество, и в своей массе, и в своей «элите», умеет только переутомляться, скучать и томиться от внутренней пустоты. Именно поэтому оно жаждет эффекта, занимательности и возбуждения; оно ищет шума, треска, дребезга и нервной щекотки; оно требует «возбуждающих средств» — не только от аптекаря, но и от художника. И сколько художников, — ведь они тоже сыны своего века, — идет навстречу этим поискам; сколь многие выдумывают «новое искусство» из утомленных душ; или силятся прорваться к новым, небывало острым раздражениям, чтобы дать эти раздражения толпе. Современное искусство полно душевного зуда и произвольных выдумок. Кто помышляет ныне о прекрасном, о пении из глубины, о целомудренном вдохновении, о великих видениях? Где есть ныне место для радости? Радость сияет и ликует; а современное человечество в искусстве потешается, хихикает и рычит. Ему нужны игрища и зрелища, а не духовная радость; футбол, парады, гонки и бокс — вот лучшее «искусство» для него. Радость идет из духовной глубины, дострадавшейся до одоления и I озарения; а современное искусство вышвыривает на рынок! все новые выверты и рассудочные выдумки, слепленные из обломков материала и из душевного хаоса по принципу вседозволенности. Радость есть духовное состояние, она от неба и от Божества. Не смолкли и никогда не смолкнут голоса Шиллера и Бетховена: Радость, искра Божества, Дщерь прелестная небес... ...Что?.. Это — «метафора», «преувеличение»?!.. Нет, — это простая и точная истина! ...Но вы «развенчали» Божество, вы «совлекли» небеса?.. И вот черный ураган идет над миром; он отучит вас хихикать и рычать, он отучит вас совсем и от смеха, и от удовольствия... Он научит зато вас или детей ваших — взывать из глубины, духовно страдать и духовно одолевать. Тогда вы постигнете опять, что такое радость, и увидите неразвенчанное Божество и несовлеченные небеса... И тогда народятся опять радостные художники радости, которые и теперь живут, и теперь творят, но мимо которых вы ныне спешите на ваши базары безвкусицы и на ваши ярмарки балаганного дребезга... Служение... Все великое в искусстве родилось из служения; служения; свободного и добровольного, ибо вдохновенного. Не из службы и рабского «заказа», ныне введенного в порабощенной России. И не из льстивого прислуживания к современному скучающему неврастенику, заполняющему салоны, рестораны, «дансинги» и столбцы газетно-журнальной критики. Нет, но из служения. Истинный художник не может творить всегда. Он не властен над своим вдохновением; и вдохновение непременно должно покидать его, чтобы опять вернуться. Но, когда он вдохновлен, он знает, что пребывает в служении. Он позван и призван — «божественный глагол» коснулся его «чуткого слуха». Позванный и призванный, он чувствует себя предстоящим. И когда он предстоит, то перед ним не много произвольных возможностей, а одна-единая художественная необходимость, которую он и призван искать и найти и в обретении которой состоит его служение. Творя, он видит; видит очами духа, которые открылись во вдохновении. Он творит из некой внутренней, духовной очевидности; она владеет им, но он сам не властен над нею. Именно поэтому его творчество не произвольно; и вносить свой произвол в созидаемое, — из соображений «службы», «прислуживания» или прихоти, — ему не позволяет именно служение, именно его художественная совесть. Не спрашивайте, чему предстоит и чему служит художник... Великие русские поэты уже сказали об этом, но им мало кто поверил: все думали — «аллегория», «метафора», «поэтическое преувеличение»... Они выговаривали — и Жуковский, и Пушкин, и Лермонтов, и Баратынский, и Языков, и Тютчев, и другие, — и выговорили, что художник имеет пророческое призвание; не потому, что он «предсказывает будущее» или «обличает порочность людей» (хотя возможно и это), а потому, что через него про-рекает себя Богом созданная сущность мира и человека. Ей он и предстоит, как живой тайне Божией; ей он и служит, становясь ее живым органом» (Тютчев): ее вздох — есть вдохновение; се пению о самой себе — и внемлет художник: и музыкант, и поэт, и живописец, и скульптор... Есть у художника глубина души, где зарождаются и вынашиваются эти таинственные содержания: Есть целый мир в душе твоей Таинственно волшебных дум... Эта глубина обычно покрыта непрозрачною мглою, не только для других, но и для него самого. И часто сам художник не знает и не постигает того, что зарождается, зреет и развертывается в этой творческой, глубинной мгле. А когда он выговаривает созревшее, то оно, — это Главное, это Сказуемое, этот прорекающийся отрывок мирового смысла, ради которого и творится все художественное произведение, — оно является в прикровенном виде; оно скрыто за музыкальным созданием, оно присутствует в его звуках, насыщает их, вздыхает и стонет в них, вдохновляя их в исполнении так, как оно вдохновляло сначала самого художника-композитора; или же оно скрыто за поэтическим словом, сверкая через него и из него, выпевая себя в избранных и незаменимых словах, властно скандируя ритм, властно завершая строчку рифмой; или же оно скрыто за живописным образом картины, за линиями, которые им проведены, за красками, которые им одобрены, за образами, которые им (этим главным Сказуемым) потребованы и отобраны... Спросите художника, — что это такое он создал? И он ответит вам строго и холодно: «смотрите» или «слушайте». Ибо он создал свое создание для того, чтобы им сказать, в него уложить, за ним скрыть и через него явить свое Главное. Вы видели и слышали его создание? И после этого еще спрашиваете? Значит, тайна воплощения или пререкания не состоялась: это или неудача художника, или неумение слушателя, или то и другое сразу. Но не ждите же от художника, чтобы он стал рассказывать вам на языке постыло-обыденных, рассудочно-затертых слов то, чему вы не сумели внять в прорекшихся глаголах его искусства. Внешнее обличие искусства, — и его осязаемая «материя», и то, что обычно называют «формой» этой материи, — все это есть лишь верная риза Главного, Сказуемого, Предмета, т. е. прорекающейся живой тайны. Может быть, даже более, чем «риза»: это как бы глядящее «око», в коем сокрыта и явлена прорекавшаяся душа произведения. Художник вынашивал и выносил эту душу, это Главное; он выстрадал и нашел для него верное «око»: смотрите же в это око и постигайте сами, что в нем сокрыто и явлено. Но не думайте, что эта риза есть не более, чем праздная ткань, лежащая в случайных складках; или что это око есть не более, чем бездушный глаз. За одеждою скрыто главное; она его одежда, его облачение или риза. И за глазом скрыто главное; ибо глаз есть орган души; он есть око глядящего через него духа. И вот, так же обстоит и в искусстве; и в нем все чувственное, внешнее есть лишь знак прорекающейся через него главной тайны... То, что художник дает людям, это не просто звуки, или слова, или живописные образы в линиях и красках. Из-за этого не стоило бы и быть искусству, а достаточно было бы развлечений, «потех» и зрелищ. Мало того: из этого художественное произведение совсем не могло бы и возникнуть. Ибо в художественном произведении все точно (определение Пушкина), все необходимо (определение Гегеля, Флобера и Чехова); в нем нет произвольного, нет лишнего, нет случайного. Художественное произведение подобно осуществленному закону. В нем все отобрано Главным; в нем всюду прорекается само Сказуемое; оно есть сама воплощенная Тайна, пропетая в музыке, или во-ображенная в образы, или облеченная в слова. И, зная это, невольно спрашиваешь себя иногда: что же воспринимают, что постигают, что истолковывают в искусстве современные «формальные» критики, разрывающие на кусочки «одежду» искусства*, так, как если бы то была не риза явившейся Тайны, а праздная ткань ее произвольно брошенными складками? Или рассматривающие «глаз», подобно окулисту, — отвлекаясь от духа, который глядит через око? В искусстве нет самодовлеющей «формы», нет самодовлеющего «способа выражения»; нет самодовлеющих «звучаний», «модуляций», гармоний», "контрапунктов", «выражений», «ритмов», "рифм", «стоп», «линий», «красок», «масс», «светотеней» и т.п. Создание искусства есть прежде всего и больше всего — выношенное художником главное, сказуемое содержание,почерпнутое им из таинственного существа мира и человека или (еще несравненно больше и священнее) — из тайны Божией (икона!). И все остальное в искусстве есть или профессиональная техника, необходимая для служения и подготовляющая к нему, или же риза главного таинственного содержания. И художник не фокусник «форм»; и не изобретатель фейерверочных эффектов; не игрок выдумками. Он служитель и про-рицатель; и лишь ради этого, лишь вследствие этого — он технический мастер своего искусства; и всегда, и до конца он — ответственный перед Богом, взысканный его даром и призванием Артист... То, что художник дает людям, есть прежде всего и больше всего некий глубокий, таинственный помысел о мире, о человеке и о Боге, — о путях Божиих и о судьбах человека и мира. Художник несет людям некую сосредоточенную медитацию, укрытую и развернутую — в этой мелодии, в этой сонате или симфонии; или в этом сонете, в этой поэме, в этой драме; или в этом пейзаже и портрете; или в этом барельефе, в этом дворце, в этом танце. Он предлагает людям принять эту медитацию, этот таинственный помысел, ввести его в свое душевно-духовное чувствилище и зажить им... Приди — струей его эфирной Омой страдальческую грудь. И жизни божески-всемирной Хотя на миг причастен будь... Художник духовно страдал и творил. Он страдал не только за себя и творил не только для себя; но за других; за всех и для всех. И вот, он выносил и прозрел. Он создал: через него прореклось то «главное», чем он сам исцелился и умудрился. Он создал новый способ жизни; новый путь к духовному целению и духовной мудрости. Этот-то целящий и умудряющий помысел, облеченный в верную и прекрасную ризу, — эту художественную медитацию, — он и предлагает ныне как некую царственную энциклику, для умудрения и целения, всем страдающим и мятущимся (вспомним, напр., представления трагедий Эсхила, Софокла и Данте; вспомним народное ликование в Сиене в 1311 году, когда Дуччио ди Буонинсенья закончил для Собора свою монументальную икону Богоматери «Majestas»; вспомним построение Успенского собора в Москве и перенесение Владимирской иконы Богоматери в Москву; вспомним открытие памятников Петру Великому и Пушкину; и многое, многое другое)... Целение художника становится целением всех, кто воспринимает его создание; его прозрение и умудрение становится их прозрением и умудрением. Они приобщаются его видению и его радости; но лишь при том условии, что они приобщаются и его служению, т. е. что они принимают его дар — его создание, его песнь, его поэму, его драму, его картину — всей душой, своим естеством и своею жизнью; не только глазом, или ухом, или памятью, или (еще хуже) всеразлагающей мыслью, как это делают профессиональные критики и формалисты-любители, эти регистраторы схем и деталей, идущие мимо всего главного; но именно — естеством души и духа. Художник не только про-рекает; ему дана власть — населять человеческие души новыми художественными медитациями и тем обновлять их, творить в них новое бытие, новую жизнь. И эта власть — его служение и его радость. Нет в искусстве никакой отдельной самодовлеющей формы; ибо форма его врощена в его содержание; и врощена именно потому, что первоначально, в душе самого художника, она выросла из этого главного и таинственного содержания. И прав был бы тот художник, который сказал бы своему критику: «не смей воспринимать меня формально, ибо ты убиваешь этим мое создание. Перестань гоняться а пустыми призраками моего искусства, ибо не для того жил, страдал и творил, чтобы ты прошел мимо моего главного и внял моему пению духовно глухим ухом…» Вот художественная болезнь нашего века: люди внимают искусству духовно глухим ухом и созерцают искусство духовно слепым глазом. И потому от всего искусства они видят одно чувственное марево; и привыкают связывать с ним свою утеху, свою потеху и свое развлечение. И нам, не болеющим этой болезнью, — одиноко стоять на этом крикливом распутьи и скорбно бродить по этой ярмарке тщеславия. Слышим и видим, как в искусстве все более торжествует теория безответственности и практика вседозволенности, — дух эстетического большевизма. Не в наших силах помешать ему; и не в наших силах даже заставить услышать наш голос. Но зато в наших силах стать под знамя истинного, ответственного и вдохновенного, непобедимого и неумирающего, классического и в то же время пророческого искусства; стать с непоколебимой уверенностью, что исторические бури и страдания смоют душевную нечисть и очистят духовный воздух и что в искусстве, как везде, распутий и соблазнов много, а путь — один. И пусть не говорят нам об «изжитых» традициях искусства; ибо священные традиции не изживаются никогда!.. Великое искусство будет и впредь всегда, как и было всегда, служением и радостью.
* Подсчетом слов и слогов; геометрическим изображением ритмов; арифметической группировкой тактов; перечислением использованных тональностей и аккордов; словесным описанием линий, красок и фуппировок; техническими наименованиями и т. п. — всем тем, что они называют -анализом произведения». Иван Ильин
28 октября 2005 года
|
|
Category:
об искусстве...
Ивану Сергеевичу Шмелеву Мы же возбудим течение встречное Против течения! Гр. А. К. Толстой  Картина М. Нестерова "Мыслитель" 1921-1922 гг. Для того, чтобы все наши разговоры и писания об искусстве имели смысл; для того, чтобы судить и спорить о художественном, — надо, чтобы люди научились и приучились сосредоточиваться не на том, что кому в искусстве нравится, а на том, что в самом деле хорошо... Картина М. Нестерова "Мыслитель" 1921-1922 гг. Для того, чтобы все наши разговоры и писания об искусстве имели смысл; для того, чтобы судить и спорить о художественном, — надо, чтобы люди научились и приучились сосредоточиваться не на том, что кому в искусстве нравится, а на том, что в самом деле хорошо... — «Как? Исключить из искусства отклик сердца и души?! Заглушить в себе трепет приемлющего или отвращающего чувства? Подавить в себе радостные, облегчающие «да», или возмущенный протест, или, наконец, просто суждение личного, свободного вкуса? Что же, люди должны стать бесчувственными истуканами перед лицом искусства? Или — холодными резонерами о «достоинствах» и «недостатках» произведения? Ведь это значит — убить живую душу, влекущуюся к искусству... Что же от него останется, если это дыхание смерти победит в людях?!..» В этом главном недоразумении, которое мне не раз приходилось выслушивать и в частных беседах, и на преподавательской кафедре, — я всегда понимал и гнев, и самое недоразумение; но для того, чтобы недоразумение рассеялось, нужно, чтобы сначала утих гнев... Нет, нет; о подавлении личного чувства, воображения и вкуса совсем не должно быть и речи. Боже нас избави и от истуканства, и от холодного резонерства. Художник творит для живых, чувствующих и страдающих, духовно ищущих и томящихся людей; он творит, чтобы осветить и зажечь. Он требует от зрителя и слушателя не бесчувственного внимания, а полного доверия и всей души, сохраняя за собой право по-своему овладеть этими душевными силами (чувством, воображением, волею, мыслью), напрячь их, наполнить их, зажечь, окрылить, осчастливить, обогатить так, как этого потребует его вдохновение. В этом власть и ответственность всякого творящего художника... Словом, об эстетическом «умерщвлении» «души, сердца, чувства или личного вкуса» — совсем нет и речи... Но тут-то все и начинается, ибо речь идет не об «умерщвлении» души, созерцания и вкуса, а об их художественном воспитании. А это воспитание и состоит в том, чтобы люди приучились сосредоточиваться в искусстве не на том, что им нравится, а на том, что в самом деле хорошо... Есть старая и мудрая русская поговорка: «по милу хорош или по хорошу мил»... В ней заложена целая философия. «По милу хорош» — означает: мне нравится этот человек, этот поступок, это стихотворение, эта картина; а раз что нравится, раз это мне «мило» и «приятно» — значит, оно и хорошо. Так судит толпа: что мне мило и любо, того мне и хочется, то для меня и «хорошо». Для меня? А на самом деле? Замечательно, что душа человека созревает, прозревает и мудреет именно тогда, когда жизнь ставит ее перед этим вопросом во всей его остроте. Так обстоит дело не только в искусстве. «Я имела несчастье полюбить негодяя», — говорит прозревшая женщина, впервые осознавшая свою драму... «Я не понимаю, как мне могла нравиться тогда эта пошлая компания», — говорит молодой человек, оглядываясь на свои гимназические годы... Так и в искусстве: «Я тогда увлекался этой поэзией; сейчас мне даже трудно сказать, что я находил в этих туманных, неуклюжих строфах, воспевающих чаще всего вино, кабак и разврат»... Жизнь духа начинается именно в тот миг, когда человек начинает постигать, что ему может нравиться плохое, а хорошее может ему и не нравиться; что не все «милое» и «приятное» хорошо; и что надо вырасти, очистить и углубить свою душу до того, чтобы все хорошее на самом деле — стало хорошим и для меня, т. е. стало «нравиться». Понять это, — значит вступить в полосу духовной зрелости. «По хорошу мил» — означает: этот человек так хорош, это стихотворение настолько совершенно, эта картина настолько художественна, ...что все мои предубеждения и сомнения исчезли, и я получил истинное и глубокое наслаждение («я был побежден», «увлечен», «я полюбил»...). Так, человек может внезапно «найти» и «полюбить» Пушкина, Глинку, Баха, Боттичелли, Нестерова, Коподи Марковальдо, Эйхендорфа или нового, еще неизвестного миру художника. Здесь качество побеждает душу, а не душа привешивает ярлык мнимого качества к тому, что ей «пришлось по вкусу». «Но люди могут все же ошибаться?» Конечно, да еще как! Гарантии от ошибок вкуса нет. Но именно потому так полезно бывает человеку больно-пребольно обжечься несколько раз на ошибках своего собственного вкуса, чтобы понять различие между «мило» и «хорошо»... Ибо - увы! — то, что нам нравится, часто совсем не хорошо; а мимо того, что действительно хорошо, мы часто проходим равнодушные, вместе с толпой... А между тем вся духовная культура и вместе с ней все великое искусство построено не на «по-милу хорош», а на «похорошу мил»... От ошибок вкуса нет гарантий. Но есть верное и не-верное направление восприятия и вкуса. Наивно и нелепо носиться со своим личным душевным укладом как мерилом «хорошего» в поэзии, музыке, живописи, скульптуре или танце; зато правильно и мудро предоставлять большим и бесспорным художникам («классикам») свою душу, чтобы они воспитали, углубили и облагородили ее эстетический вкус. Воспринимая искусство, не надо прислушиваться к себе, к своим душевным состояниям, настроениям и «приятностям»; надо забывать о себе в художественном созерцании; надо помнить, что нам может понравиться и плохое, и никогда не доверять ни первому, ни второму впечатлению. Суждение настоящего вкуса гораздо глубже, чем обывательское «нравится»; это суждение родится не на поверхности случайного «удовольствия-неудовольствия», а из глубины души, ищущей совершенства и потерявшей себя в художественном восприятии данного произведения искусства... Разрешение вопроса состоит не в том, чтобы «нравилось» независимо от того, «хорошо» или «плохо», — из этого возникает только безответственная претенциозность, вкус толпы (равносильный почти всегда безвкусию), «мода» в искусстве и в конечном итоге пошлость. Но разрешение вопроса состоит и не в том, чтобы люди и холодном безразличном анализе доказывали друг другу, что такое-то произведение искусства создано по всем законам «красоты», а такое-то нет. Мало того, чтобы было «хорошо», надо, чтобы истинная художественность проникала в самую глубину души, вызывая, по слову Пушкина, «восторг и умиленье» или то дивное, незабываемое по радостности своей чувство, будто я всю жизнь ждал и жаждал именно этой мелодии, именно этой элегии, этой картины, будто я сам «все хотел» создать их и только не умел... Но мало также, чтобы создание искусства «нравилось» или давало удовлетворение; надо идти дальше, уходя в созерцание его объективного совершенства, которое уже не зависит от моего одобрения и не нуждается в нем, перед которым я сам оказываюсь осчастливленным учеником, а не тщеславным фатом или резонирующим снобом. Этот серьезный и глубокий подход наш к искусству важен не только для нас, зрителей или слушателей, но и для них, творящих художников. Мы не должны и не смеем требовать от них ни приспособления к нашим дурным и случайным вкусам, ни лести, ни заигрывания. Художник должен творить свободно — отнюдь не бессовестно, не безответственно, не произвольно, — но по свободному вдохновению, без оглядки на толпу, без заботы о ее модах, вкусах, вожделениях и претензиях. Углубляясь в свой творческий процесс, вынашивая свою художественную тайну, находя для нее верные образы, звуки, линии, краски и слова, он не должен коситься на «нас» и на наши «рукоплескания» или «свистки»; а мы не должны стоять вокруг него требовательной чернью, «бранить его» или «плевать на алтарь, где горит его огонь». Он должен помнить, что созданное совершенство воспитывает вкус толпы и возносит душу человека, но что вкус толпы снижает и опошляет художественное творчество. Ты царь: живи один. Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум, Усовершенствуя плоды любимых дум, Не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд; Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Вот гениально высказанный, великий и непоколебимый канон художественного творчества; величайшая, царственная свобода в отношении к тому, что гласит «суд глупца и смех толпы холодной»; и величайшее, строгое, взыскательное творческое напряжение свободного Ума — таковы две первоосновы, в коих слагается и протекает «благородный подвиг» художника. И может ли быть иначе? Как найдет он верные образы для своей главной тайны, как подберет он верную земную материю, ткань из линии, масс звуков и слов для рожденных им образов, если его внимание будет разделено между тем, к чему зовет его «божественный глагол» (Пушкин), и тем, что «нам нравится»? Что создаст он, раздвоенный внутренне между таинственными зовами из глубины («Как ропот струй, так шепчет сердца голос...» А. К. Толстой) и крикливыми голосами толпы, создающей ему «успех» или «неуспех»?.. Художник призван вести; он никого не поведет, если сам побежит за толпой. Где-то, в глубине своей души, в самом начале своего творчества, он должен дать трепетную клятву служить Богу, а не человекам; осуществлять художественный закон, а не угодничать перед людьми, не раболепствовать перед диктаторами, не гоняться за площадной модой. Только тогда он сумеет «благоухающими устами поэзии навевать на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакою властью» (Гоголь). Но если к этому призваны и сам художник, и внимающая ему душа, — то эта духовная свобода от всяческой непредметности, и эта совестливая сосредоточенность на «строгой тайне» искусства и на ее «сокровеннейшей небесной музыке» (Гоголь) является основным законом для художественного критика. Критик призван быть не любезным льстецом, не придирчивым ругателем и не эмоциональным болтуном, несущимся за своими или (еще хуже) за чужими «импрессиями». Он призван видеть вместе с артистом ту тайну, которую тот изображает; но, кроме того — еще и самое творящую душу артиста, его дар, его путь, его срывы и взлеты. Он должен помогать художнику: — оберегать его свободу от толпы и помогать его творческим напряжениям. Для этого критик должен быть прозорлив, предметен и честен и прежде всего — он должен быть сам свободен от моды, от толпы, от личных пристрастий и от соблазнов знакомства. И далее, критик есть воспитатель зрителя и слушателя. Он должен видеть не менее артиста, но более рядового зрителя; показывать художнику душу зрителя и показывать зрителю душу художника. Критик должен быть свободным мастером главного, но не в творчестве, ибо тогда он сам стал бы художником, а в созерцании и в его осмысливании... И ныне, когда на великих просторах русской культуры воцарилась чернь, худшая разновидность ее - полуобразованная чернь, с ее материализмом, пошлостью, заносчивостью и воинственной требовательностью; когда подъяремное русское искусство под угрозами этой черни утратило свою свободу и вынуждено вот уже пятнадцать лет слушать «суд глупца» и вменять его себе в закон; когда идея художественной критики поругана литературными лакеями советчины и критик стал политическим сыщиком, — мы должны спокойно и уверенно развернуть знамя нашей исконной русской художественной традиции; и более того — мы должны осуществлять до конца ее заветы в творчестве, в восприятии и в критике. И этим растить, углублять и умножать русское национальное художество. Иван Ильин
25 октября 2005 года
|
|
Category:
ответы на вопросы
Вопрос:
Могут ли в Священное Предание Православной Церкви вкрасться ошибки? Может ли оно противоречить Библии? Должно ли Священное Предание являться таким же авторитетом для нас, как и сама Библия? Почему? Дмитрий
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
Вопрос о каноническом авторитете Предания возник не в 16 веке, когда протестанты отвергли его, а еще в эпоху древних святых отцов. Реформаторы лишь ясно сформулировали свою позицию: «только Писание». Авторитет ими признается лишь за Библией. Однако парадоксальность их утверждений заключается в том, что в самом Писании нет такой мысли. Получается, что уже в своем главном и исходном положении они не соблюдают вводимое им правило, ибо нигде само Священное Писание не говорит, что Библия является единственным источником истины. И вопрос, который мы часто слышим – «покажите, где об этом говорится в Библии?» – хочется обратить к ним. В Священном Писании говорится, что оно богодухновенно (2Тим.3:16; 2Пет.1:21), но ни в одном месте не говорится, что, кроме Писания, не может быть еще другого руководства в делах веры. Господь наш Иисус Христос учил апостолов и народ не писанием, а словами и делами: Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг (Ин.21:25). Божественный Учитель в течение Своей земной жизни говорил и действовал, уча примером: Первую книгу написал я …о всем, что Иисус делал и чему учил от начала (Деян.1:1). Иисус Христос также научал истолкованию Писания: Вы слышали, что сказано древним… А Я говорю вам (Мф.5:21-22); Вы слышали, что сказано древним… А Я говорю вам (Мф.5:27-28). И после Своего воскресения Иисус Христос продолжал учить Своих последователей понимать смысл священных книг: И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании (Лк.24:27). Господь давал живой пример того, что ученики должны будут делать после Его Вознесения: Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам (Ин.13:15). Из вступления св. евангелиста Луки к написанному им Евангелию видим, что Предание предшествовало новозаветному Писанию, ибо были записаны несколько десятилетий спустя после Вознесения Господа: Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен (Лк.1:2-4). И в апостольских Посланиях имеются ясные указания об авторитете Предания: Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим (2Фесс.2:15). Обратим внимание: научены посланием (Писание) и научены словом (Предание), а слово передается устами и воспринимается слухом. В другом послании св. апостол пишет: Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам (1Кор.11:2). Из приведенного места видно, что св. апостол Павел многое преподавал не в письменной форме. Рассматривая Предание как установленный Божественным Промыслом способ хранения Откровения, мы не можем допустить мысли о том, что в Священное Предание могли вкрасться ошибки. Такое понимание полностью согласуется с учением о Церкви. Сам Господь Иисус Христос является главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем (Еф.1:22-23). Принципиальным является вопрос о границах Предания, ибо не все во внутренней жизни Церкви мы должны рассматривать как Предание. «Что такое предание? То, что тебе вверено, а не то, что тобой изобретено, то что ты принял, а не то, что ты выдумал, дело не ума, но учения, не частного обладания, но всенародной передачи, дело, до тебя дошедшее, а не тобою открытое, в отношении к которому ты должен быть не изобретателем, но стражем, не учредителем, но последователем, не вождем, но ведомым. Предание, говорит, сохрани. То есть талант веры кафолической сбереги неповрежденным и неиспорченным» (Преп. Викентий Лиринский). Предание скристаллизовалось в древних Литургиях, восходящих к апостолам, Символах веры древнейших поместных церквей (Иерусалимской, Антиохийской и др.), в Правилах апостольских, деяниях Вселенских и Поместных соборов, древнейших мученических актах, в которых записано исповедание христианской веры, в творениях святых отцов, в которых они изъясняли символы веры и излагали церковное учение, в древней практике Церкви (священные времена, обряды и т.д.). Православная Церковь стремится бережно хранить апостольское наследие. Есть истины, значение которых во всей полноте открываются тогда, когда их начинают отрицать. Когда кто-либо заявляет о том, что признает только Писание, а Предание отвергает как «человеческое», как раз и начинается чисто человеческое мудрование, ибо единственным истолкователем и мерой всего оказывается человек, а не Церковь, которую св. апостол Павел называет столп и утверждение истины (1Тим.3:15). «Я с большим усердием и со всевозможным тщанием часто старался узнать от весьма многих преблагочестивых и преученых мужей, как мне некоторым верным и как бы общим и правильным путем отличать истину веры кафолической от лживости уклонения еретического. На это все они давали мне всегда такой обыкновенно ответ: если я или другой кто захочет узнать обманы и избежать сетей вновь являющихся еретиков и пребыть в здравой вере здравым и целым, то должен оградить веру свою, при помощи Божией, двумя средствами: во-первых, авторитетом Закона божественного (Священного Писания), а во-вторых Преданием кафолической Церкви. Но, быть может, кто-нибудь спросит: ведь канон Писаний совершенен и с избытком достаточен на все. Почему же нужно присоединять к нему авторитет разумения церковного? – Потому, что священное Писание, по причине возвышенности его, не все понимают одинаково, но иный толкует глаголы его так, а иный иначе, так что представляется возможным извлечь из него столько же смыслов, сколько есть голов. Так, иначе изъясняет его Новациан, иначе Савеллий, иначе Донат, иначе Арий, Евномий, Македоний, иначе Фотин, иначе Аполлинарий, Прискиллиан, иначе Иовиниан, Пелагий, Целестий, иначе наконец Несторий. А потому-то именно, что существует такое множество изворотов крайне разнообразного заблуждения, весьма необходимо направлять нить толкования пророков и апостолов по правилу (norma) церковного и православного понимания» (преп. Викентий Лиринский). История Церкви свидетельствует, что большинство ересей рождалось от самочинного толкования Священного Писания. Все, о чем писал преп. Викентий Лиринский, почивший около 450 года, через 11 веков болезненно проявилось с началом Реформации. М.Лютер и его последовали единственным авторитетом и источником истины объявили Писание. Поскольку Предание было отвергнуто, то разум отдельного верующего был признан единственным основанием в понимании и толковании Слова Божия. Субъективные оценки толкователя становятся критерием истины. Уже в первые годы после провозглашения этого принципа начинают возникать, а, возникнув, дробиться течения, направления, независимые общины и т.д., между руководителями которых начинается непримиримая вражда. У.Цвингли, А.Карлштадт, Ж.Кальвин, Т.Мюнцер и др. сторонники Реформации каждый по-своему понимал Писание, и на этом понимании основал собственное учение. В дальнейшем начинается цепная реакция расколов, дроблений, отделений и проч. Хотя сейчас образовалось целое море раздробившихся течений (почти 200 больших и малых протестантских деноминаций и множество независимых общин), протестанты все еще не осознали, что произошла трагедия: они лишились Церкви. «Церковь же Христова, заботливая и осторожная блюстительница вверенных ее хранению догматов, никогда в них ничего не изменяет, ничего не уменьшает, ничего не прибавляет, – необходимого не отсекает, излишнего не принимает, своего не теряет, чужого не присваивает; но со всей рачительностью старается единственно о том, чтобы, рассуждая о древнем верно и мудро, если что в древности предначертано и основано, то довершать и отделывать, если что пояснено уже и истолковано, то укреплять и подтверждать, если что подтверждено уже и определено, то хранить» (преп. Викентий Лиринский). 10 / 04 / 2006
|
|
|